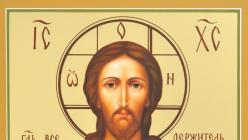Памяти моих родителей Анны Дмитриевны и Михаила Сергеевича Шершнёвых
Радости и страхи семейного уклада
Радости и страхи гимназиста
Первые пробы пера
Не было у Ивана Сергеевича Шмелева отца - выдающегося математика, матери - талантливой пианистки, не было среди его родни мистиков, философов, художников, действительных тайных советников, не текла в его жилах кровь князей Курбских, не принадлежал он по рождению ни к политической, ни к военной, ни к творческой элите.
Гуслицы - это юго-восточная часть Богородского уезда Московской губернии с прилегающими землями Рязанской и Владимирской губерний по реке Гуслице, притоку реки Нерской, которая впадает в Москву-реку. По одной из версий, название пошло от финского «kuusi», то есть «ель»: в начале второго тысячелетия население Гуслиц было смешанным, славянским и финно-угорским. По реке названо и село Гуслицы Богородского уезда, известное со времен Ивана Калиты. Оттуда идет род Шмелевых.
Эти места называли старообрядческой Палестиной. Там в XVII–XVIII веках селились беглые староверы. Из актов конца XVII века Иван Сергеевич Шмелев вычитал, что его предок во время тяжбы в Успенском соборе между старообрядцами и новообрядцам в присутствии царевны Софьи учинил драку с соборным батюшкой. Жители назывались гусляками, они были носителями особого, гуслицкого, самосознания, которым многое объясняется в характере и образе жизни Шмелевых.
Гусляки - люди с достоинством, деятельные, предприимчивые, грамотные. В XVIII–XIX веках в гуслицких селах добывали глину, производили фаянсовую посуду, хлопчатобумажные ткани, занимались извозом, торговлей, хмелеводством, потому и родилась поговорка, записанная В. Далем: «У него в голове гусляк разгулялся». Гусляки делали лестовки (кожаные четки раскольников) и развивали иконопись, причем их заказчиками были и новообрядцы. В Гуслицах сложился свой стиль оформления книг - их переписыванием и украшением там занимались профессионально. Оформился и свой стиль рисованного лубка.
Прадед Ивана Сергеевича Шмелева, тоже Иван, был из государственных гуслицких крестьян. Прабабушка, Устинья Васильевна, состояла в родстве с Морозовыми, из которых вышел основатель династии Морозовых - Савва Васильевич. Прадед Иван перебрался в Москву в 1812 году. Он обосновался в Кадашевской слободе, что в Замоскворечье, - в районе купеческих особняков и каменных церквей. Замоскворечье - символ купечества. Здесь укоренился купец первой гильдии В. А. Кокорев, из старообрядческой семьи костромских торговцев; с его именем связана Большая Ордынка, Кокоревское подворье. Здесь были владения Шемшуриных и Жемочкиных. Отсюда купец Кумакин, дядя Достоевского по материнской линии. Тут благодаря прадеду Ивану жило несколько поколений Шмелевых.
Слобода названа по селу Кадашево, которое упомянуто в завещании великого князя Ивана Васильевича в 1504 году. Название пошло, очевидно, от старинного наименования мастеров полотняного ремесла, либо от кадник, кадаш, кадыш - бочар, обручник, бондарь… «наехали кадаши, из Мещеры торгаши». Шмелев построил дом, а когда началась война с Наполеоном, он оставил в этом доме жену, детей и ушел на Воробьевы горы, где по ночам вместе с другими мужиками ловил французов. По семейному преданию, Устинья Васильевна как-то схватилась с французом-мародером, пытавшимся увести со двора корову, ее заступником оказался Наполеон, появившийся во дворе в нужное время. После войны прадед занялся плотницким делом, торговал посудным и щепным, то есть деревянным, товаром резной, токарной работы, а это могли быть чашки, миски, ложки, игрушки, складни и проч. Он накопил денег и стал подрядчиком.
Его сын, тоже Иван, дед писателя, продолжил семейное дело, расширил его - начал брать подряды на строительство домов и стал настолько уважаемым подрядчиком, что принял участие в строительстве деревянного Крымского моста. И не такое бывало: он взялся за дело, сулившее верные прибыли и почет, - за перестройку Коломенского дворца. Думал, что за это ему пришлют «кулек крестов», как написал его внук в «Автобиографии» (1913). Но Иван Иванович, человек, по всей видимости, с норовом, отказался дать взятку приемной комиссии, а в результате почти разорился. От коломенского проекта пришлось отказаться. Тогда он выломал дворцовый паркет, снял рамы и двери и пустил все это на ремонт отцовского дома в Кадашах. Иван Иванович оставил сыну Сергею три тысячи рублей ассигнациями и сто тысяч долга.
Сергей Иванович курса в Мещанском училище не окончил, проучился только четыре класса; он с пятнадцати лет помогал отцу и после его смерти продолжил подрядное дело, покупал лес, гонял с ним барки, сплавлял плоты, стал хозяином большой плотницкой артели и держал банные заведения. Почти все московские бани строились по берегам рек, речек, проточных прудов. От Крымского моста до Воробьевых гор тянулись бани, купальни, портомойни, был устроен прокат лодок. Часть всего этого принадлежала Шмелевым и обеспечивала им доход. Шмелевский род вообще отличался хозяйственностью: двоюродный брат Сергея Ивановича, Егор Васильевич, владел кирпичным заводом на Воробьевых горах; правда, в 1894 году завод был продан.
Иван Сергеевич Шмелев, будущий писатель, родился 21 сентября (3 октября) 1873 года, в родовом шмелевском доме, что на Калужской улице, под номером тринадцать. Он появился на свет в пору расцвета семейного дела - домашний уклад был благополучен, устойчив, а детское ощущение райского бытия происходило от отцовского жизнелюбия.
У Сергея Ивановича было триста плотников - и они тоже были известны по всей Москве. Они выполняли такие престижные работы, как возведение лесов и помостов в храме Христа Спасителя. Азарта Сергея Ивановича хватало и на серьезные проекты, и на веселую безделицу. Он первым ввел в Москве ледяные горы. Алексей Михайлович Ремизов в «Центурионе», вошедшем в его книгу «Мышкина дудочка» (1953), писал: «Отец Шмелева заделался тузом на Москве за свои масленичные горы - понастроены были фараоновы пирамиды в Зоологическом и Нескучном. Долго потом купцы вспоминали в Сокольниках и на Воробьевых за самоваром шмелевские фейерверки». Сергей Иванович, как говорили раньше, ставил балаганы. Он упомянут как устроитель народных гуляний в «Юнкерах» (1933) Александра Ивановича Куприна. Его последним делом был подряд по постройке трибун на открытии памятника Пушкину. Умер Сергей Иванович 7 октября 1880 года. Молодая, необъезженная лошадь сбросила его и протащила по дороге. Перед кончиной Сергей Иванович долго болел. Его похоронили на кладбище Донского монастыря. Ивану Шмелеву было тогда семь лет. Он наблюдал из окна, как траурная процессия двигалась к монастырю. Отца Иван обожал. Сергей Иванович стал героем его произведений. Когда в феврале 1928 года в парижской газете «Возрождение» был опубликован посвященный Куприну рассказ Шмелева «Наша Масленица», Константин Бальмонт 4 марта 1928 года написал автору: «Когда я читал его вслух, мы и плясали, и смеялись, и восклицали, и плакали <…> Это - чудесно. Это - родное. Мы любим Вашего отца. Я его вижу. Мы - силой Вашего слова были у него в гостях…»
После смерти отца семья жила скудновато - остались долги. Но Шмелев вспоминал, что дома пекли ситный хлеб, по воскресеньям к чаю обязательно были пирожки - эти и другие привычки милой старины сохранила матушка. Ее звали Евлампией Гавриловной. Она была родом из купеческой семьи Савиновых, закончила институт благородных девиц. Выйдя замуж за Сергея Ивановича, родила ему шестерых детей: Софью, Марию, Николая, Сергея, Ивана, Екатерину. Овдовев, она в полной мере проявила жесткость характера и силу воли, взвалив на себя заботы о благополучии дома. Кормилась семья за счет принадлежавших Шмелевым бань. К тому же Евлампия Гавриловна еще сдавала третий и подвальный этажи дома. Родители Шмелева - из устроителей жизни. В матушке проявилась купеческая хватка. Шмелев, как это видно из его произведений, в частности из статьи «Душа Москвы» (1930), не считал купечество темным царством, отдавал должное купцам в материальном и духовном строительстве Москвы, имея в виду галерею Третьяковых, художественные собрания Щукина и Цветкова, собрания древней иконной живописи Солдатенкова, Рябушинского, Постникова, Хлудова, Карзинкина, картинную галерею Морозова, библиотеку Хлудовых, бесплатные больницы - Алексеевскую, Бахрушинскую, Хлудовскую, Сокольническую, Морозовскую, Солдатенковскую, Солодовниковскую, а также богадельни, дома дешевых квартир, родильные приюты, училище для глухонемых, приют для исправления малолетних преступников.
Семья будущего писателя в известном смысле не была просвещенной, в доме, кроме старенького Евангелия, молитвенников, поминаний да в чулане на полках «Четьи Минеи» прабабушки Устиньи, других книг не было. Жизнь протекала по когда-то давно заведенному порядку.
Письмо Ивана Шмелёва господину Оберу, защитнику русского офицера Конради*, как материал для дела.
Фото семьи Шмелевых (с супругой Ольгой Александровной и сыном Сергеем)
Сознавая громадное общечеловеческое и политическое значение процесса об убийстве Советского Представителя Воровского русским офицером Конради, считаю долгом совести для выяснения истины представить Вам нижеследующие сведения, проливающие некоторый свет на историю террора, ужаса и мук человеческих, свидетелем и жертвой которых приходилось мне быть в Крыму, в городе Алуште, Феодосии и Симферополе, за время с ноября 1920 по февраль 1922 года. Все сообщенное мною, лишь ничтожная часть того страшного, что совершено Советской властью в России. Клятвой могу подтвердить, что все сообщенное мною — правда. Я — известный в России писатель-беллетрист, Иван Шмелев, проживаю в Париже, 12, рю Шевер, Париж 7.
I. — Мой сын, артиллерийский офицер 25 лет, Сергей Шмелев — участник Великой войны, затем — офицер Добровольческой Армии Деникина в Туркестане. После, больной туберкулезом, служил в Армии Врангеля, в Крыму, в городе Алуште, при управлении Коменданта, не принимая участия в боях. При отступлении добровольцев остался в Крыму. Был арестован большевиками и увезен в Феодосию «для некоторых формальностей», как, на мои просьбы и протесты, ответили чекисты. Там его держали в подвале на каменном полу, с массой таких же офицеров, священников, чиновников. Морили голодом. Продержав с месяц, больного, погнали ночью за город и расстреляли. Я тогда этого не знал. На мои просьбы, поиски и запросы, что сделали с моим сыном, мне отвечали усмешками: «выслали на Север!» Представители высшей власти давали мне понять, что теперь поздно, что самого «дела» ареста нет. На мою просьбу Высшему Советскому учреждению ВЦИК, — Всер. Центр. Исполнит. Комит — ответа не последовало. На хлопоты в Москве мне дали понять, что лучше не надо «ворошить» дела, — толку все равно не будет. Так поступили со мной, кого представители центральной власти не могли не знать.
II. — Во всех городах Крыма были расстреляны без суда все служившие в милиции Крыма и все бывшие полицейские чины прежних правительств, тысячи простых солдат, служивших из-за куска хлеба и не разбиравшихся в политике.
III. — Все солдаты Врангеля, взятые по мобилизации и оставшиеся в Крыму, были брошены в подвалы. Я видел в городе Алуште, как большевики гнали их зимой за горы, раздев до подштанников, босых, голодных. Народ, глядя на это, плакал. Они кутались в мешки, в рваные одеяла, что подавали добрые люди. Многих из них убили, прочих послали в шахты.
IV. — Всех, кто прибыл в Крым после октября 17 года без разрешения властей, арестовали. Многих расстреляли. Убили московского фабриканта Прохорова и его сына 17 лет, лично мне известных, — за то, что они приехали в Крым из Москвы, — бежали.
V. — В Ялте расстреляли в декабре 1920 года престарелую княгиню Барятинскую. Слабая, она не могла идти — ее толкали прикладами. Убили неизвестно за что, без суда, как и всех.
VI. — В г. Алуште арестовали молодого писателя Бориса Шишкина и его брата, Дмитрия, лично мне известных. Первый служил писарем при коменданте города. Их обвинили в разбое, без всякого основания, и несмотря на ручательство рабочих города, которые их знали, расстреляли в г. Ялте без суда. Это происходило в ноябре 1921 года.
VII. — Расстреляли в декабре 1920 года в Симферополе семерых морских офицеров, не уехавших в Европу и потом явившихся на регистрацию. Их арестовали в Алуште.
VIII. — Всех бывших офицеров, как принимавших участие, так и не участвовавших в гражданской войне, явившихся на регистрацию по требованию властей, арестовали и расстреляли, среди них — инвалидов великой войны и глубоких стариков.
IX. — Двенадцать офицеров русской армии, вернувшихся на барках из Болгарии в январе-феврале 1922 года, и открыто заявивших, что приехали добровольно с тоски по родным и России, и что они желают остаться в России, — расстреляли в Ялте в январе-феврале 1922 года.
X. — По словам доктора, заключенного с моим сыном в Феодосии, в подвале Чеки и потом выпущенного, служившего у большевиков и бежавшего заграницу, за время террора за 2-3 месяца, конец 1920 года и начало 1921 года в городах Крыма: Севастополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Алупке, Алуште, Судаке, Старом Крыму и проч. местах, было убито без суда и следствия, до ста двадцати тысяч человек — мужчин и женщин, от стариков до детей. Сведения эти собраны по материалам — бывших союзов врачей Крыма. По его словам, официальные данные указывают цифру в 56 тысяч. Но нужно считать в два раза больше. По Феодосии официально данные дают 7-8 тысяч расстрелянных, по данным врачей — свыше 13 тысяч.
Фото семьи Шмелевых (с супругой Ольгой Александровной и сыном Сергеем), 1917 год
XI. — Террор проводили по Крыму — Председатель Крымского Военно-Революционного Комитета — венгерский коммунист Бела-Кун. В Феодосии Начальник Особого Отдела 3-й Стрелковой Дивизии 4-й Армии тов. Зотов, и его помощник тов. Островский, известный на юге своей необычайной жестокостью. Он же и расстрелял моего сына.
Свидетельствую, что в редкой русской семье в Крыму не было одного или нескольких расстрелянных. Было много расстреляно татар. Одного учителя-татарина, б. офицера забили на-смерть шомполами и отдали его тело татарам.
XII. — Мне лично не раз заявляли на мои просьбы дать точные сведения — за что расстреляли моего сына и на мои просьбы выдать тело или хотя бы сказать, где его зарыли, уполномоченный от Всероссийской Чрезвычайной Комиссии Дзержинского, Реденс, сказал, пожимая плечами: «Чего вы хотите? Тут, в Крыму, была такая каша…».
XIII. — Как мне приходилось слышать не раз от официальных лиц, было получено приказание из Москвы — «Подмести Крым железной метлой». И вот — старались уже для «статистики». Так цинично хвалились исполнители. — «Надо дать красивую статистику». И дали.
Свидетельствую: я видел и испытал все ужасы, выжив в Крыму с ноября 1920 года по февраль 1922 года. Если бы случайное чудо и властная Международная Комиссия могла бы получить право произвести следствие на местах, она собрала бы такой материал, который с избытком поглотил бы все преступления и все ужасы избиений, когда-либо бывших на земле.
Я не мог добиться у Советской власти суда над убийцами. Потому-то Советская власть — те же убийцы. И вот я считаю долгом совести явиться свидетелем хотя бы ничтожной части великого избиения России, перед судом свободных граждан Швейцарии. Клянусь, что в моих словах — все истина.
Иван Сергеевич Шмелёв.
*Морис Конради - русский офицер (швейцарского происхождения), Георгиевский кавалер, участник Первой мировой войны и Белого движения. Галлиполиец. В эмиграции - в Швейцарии. 10 мая 1923 года в Лозанне, в ресторане отеля «Сесиль», Морис Конради застрелил советского дипломата Вацлава Воровского и ранил двух его помощников — Ивана Аренса и Максима Дивилковского. После этого он бросил пистолет (по другим рассказам — отдал его метрдотелю) и сдался полиции со словами: «Я сделал доброе дело — большевики погубили всю Европу… Это пойдет на пользу всему миру».
- Грико Татьяна
Возвращение Ивана Шмелева
В июне этого года исполняется пятьдесят лет со дня смерти Ивана Сергеевича Шмелева. Все эти полвека Шмелев возвращался в Россию.
Добровольный изгнанник, эмигрант, потерявший сына в красной России, при жизни он был заклеймен в СССР чуть ли не как изменник, а затем забыт. Во время «оттепели» исчезло клеветническое «фашист», вернулись лучшие дореволюционные произведения писателя. В конце восьмидесятых пришел черед его зарубежным книгам, а звание «белоэмигрант» перестало казаться ужасным.
И когда политика отошла на второй план, началось художественное возвращение на родину «мага и волшебника» русского языка. И журнал «Москва» к сему причастен: именно с его страниц к российским читателям пришли «Старый Валаам», «Няня из Москвы», «История любовная», «Солдаты»...
Издательство «Русская книга» выпустило восьмитомное собрание сочинений писателя. Оно вобрало в себя все лучшее, что было написано Иваном Сергеевичем. Теперь должна последовать уже совсем другая работа - текстология, комментирование, введение архива в научный оборот, расшифровка дневников и писем.
В рамках собрания сочинений И.А.Ильина в «Русской книге» выходит трехтомник «Переписка двух Иванов». Кропотливейшую работу по подготовке текста писем И.А.Ильина и И.С.Шмелева провела О.В.Лисица, прокомментировал издание Ю.Т.Лисица.
Крестник и внучатый племянник писателя Ив Жантийом (чьи воспоминания публикуются в этом номере) - хранитель и владелец эмигрантского архива Ивана Сергеевича, множества его рукописей, фотографий, книг, вырезок и просто личных вещей. Это уже «овеществленная» память.
Г-н Жантийом передал архив в Российский фонд культуры и Российский государственный архив литературы; скоро почитатели шмелевского таланта смогут взять в руки страницы «Лета Господня» из пожелтевшей папки, посмотреть вышивку Ольги Александровны и старинные фотографии.
Работа по возвращению архива - один из пунктов программы Российского фонда культуры, связанной с пятидесятилетием со дня кончины писателя. В программе -проведение (совместно с Институтом мировой литературы) научной шмелевской конференции (первой в России!), съемка фильма с уникальными рассказами современников Ивана Сергеевича (фильм уже снят и отдан для демонстрации), публикация материалов из архива...
Идет работа над мемориальной доской и бюстом Шмелева. Макеты их были изготовлены скульптором Л.Люзиновской еще при жизни писателя - это дар г-на Жантийома. Бюст писателя будет установлен 29 мая в одном из скверов Замоскворечья, где Иван Сергеевич прожил все свои «русские» годы («А я ведь в Замоскворечье родился, привык по земле ходить и люблю земной дух»). Сохранился один-единственный дом, где в 1915-1918, 1922 годах жил писатель: Малая Полянка, 7; на нем и будет установлена доска.
И, наконец, будет выполнена последняя воля писателя. В завещании Шмелева есть такие строки: «Прошу душеприказчиков... когда это станет возможным, перевезти прах моей покойной жены и мой в Россию и похоронить в Москве, на кладбище Донского монастыря, по возможности возле могилы моего отца, Сергея Ивановича Шмелева».
Найдено семейное захоронение Шмелевых, получено благословение Патриарха, есть договоренность с французской стороной. Перезахоронение праха состоится 30 мая в некрополе Донского монастыря.
Иван Сергеевич несколько раз писал о своем желании покоиться на Донском. Из красно-белого Крыма гражданской войны: «Да, я сам хочу умереть в Москве и быть похороненным на Донском кладбище, имейте в виду. На Донском! в моей округе. То есть если я умру, а Вы будете живы, и моих никого не будет в живых, продайте мои штаны, мои книжки, а вывезите меня в Москву». И в «Лете Господнем» объяснил: «А потом и в Донской монастырь... Не надо бы отбиваться, Горкин говорит, - «что же разнобой-то делать, срок-то когда придет: одни тама восстанут, другие тама поодаль... вместе-то бы складней...»».
Шмелев думал о грядущем воскресении. И хотел, чтобы близкие ему люди, русские люди, встали все вместе. Он хотел быть вместе с Россией - той, о которой тосковал все годы изгнания, о которой написал свои лучшие произведения. Все эти годы Шмелев в Россию возвращался. И, наконец, вернулся.
Елена Осьминина
Шмелевы на Арбате
Где находятся корни шмелевского рода? Сам Иван Сергеевич в «Автобиографии» писал, что прародиной фамилии были Гуслицы Богородского уезда Московской губернии.
В 1802 году братья Шмелевы - Иван Иванович Большой и Иван Иванович Меньшой (прадед писателя) - приехали в Москву и записались в московское купечество. Они показали, что являются экономическими крестьянами села Осташкова Коломенского уезда Московской губернии. Эти сведения содержат материалы шестой ревизии, проходившей в России в 1811 году.
Ревизская сказка Кадашевской слободы сообщает об Иване Ивановиче Шмелеве Меньшом:
«Поданная по высочайшему манифесту по шестой ревизии в 18 день маия сего года о состоящих в семействе московского третьей гильдии Кадашевской слободы купца Ивана Иванова Шмелева Меньшого мужска пола душах ноября __ дня 1811 года.
Иван Иванов Шмелев Меншой.
В московское купечество прибыл я по указу Московского городского правления юстицких гражданских дел департамента в 1802 году генваря 30 дни Московской губернии Коломенского уезда села Осташкова из економических крестьян, где последней пред сей ревизии в подушном окладе написан был.
Жительство я имею в Арбацкой части, в приходе у Николы Явленного, в доме московского купца Семена Пивоварова.
К сей скаске московски купец Иван Иванов Мешыса Шмелев руку прелажил.»
Иван Иванович Шмелев Меньшой сообщает, что в его семье состоят жена Устинья Васильевна, двадцати лет, и родная мать Аксинья Васильевна (ф. 51, оп. 18, д. 68, л. 308).
Аналогичное известие содержится в ревизских сказках о старшем брате, Иване Ивановиче Шмелеве Большом, который в составе своей семьи имел жену Ульяну Васильевну, двадцати трех лет, и годовалую дочь Анну (ф. 51, оп. 18, д. 68, л. 299-300). Ранее рожденные сыновья не упоминаются, так как, видимо, уже числились в московском купечестве.
Выявленные сведения о происхождении семьи нуждались в проверке. Найти ревизские сказки пятой ревизии по Коломенскому уезду не удалось, разыскать Шмелевых в метрических книгах Коломенского уезда также не получилось: документы ветхие, нуждаются в реставрации и исследователям не выдаются. Остается признать, что окончательно вопрос о прародине предков писателя не разрешен. Пока будем считать, что Шмелевы происходят из подмосковных экономических крестьян. Экономические крестьяне появились в России в XVIII веке, после секуляризации церковных земель, и обладали несколько большей свободой, чем крепостные. Видимо, это и позволило братьям перебраться в Москву и начать собственное дело.
Итак, Шмелевы живут на Арбате, в приходе церкви Николы Явленного. Церкви этой уже давно не существует, она разрушена в 1931 году, и ныне можно только подойти к тому месту (пустырь между домами № 14 и № 16 по Арбату), где когда-то находился этот храм, построенный в конце XVI века по повелению Бориса Годунова. В 1846 году храм был снесен и перестроен в новых формах, но Шмелевы посещали еще древнюю, годуновскую церковь, метрические книги которой позволяют частично восстановить их семейную историю.
В 1806 или 1807 году братья Шмелевы поселились в доме купца Пивоварова, стоявшем, согласно материалам 1826 года, в самом начале Арбата. В феврале 1807 года в метрической книге появляется запись о том, что у крестьянина графа Алексея Петровича Орлова, Семена Ильина, родился сын Афанасий. Крестными были крестьянин деревни Абашево Дмитрий Петров и «московского купца Ивана Шмелева жена Ульяна Васильева» (ф. 203, оп. 745, д. 260, л. 366). Шмелевы явно не новички в Москве, у них есть знакомства, их приглашают в кумовья.
Скоро кумовья понадобились самому Ивану Большому: в августе 1807 года у них с Ульяной Васильевной родился сын Андрей. Восприемниками стали Иван Шмелев Меньшой и московская купеческая жена Марья Ефимова Зезина (ф. 203, оп. 745, д. 260, л. 374 об.). В сентябре 1809 года у супругов родился сын Захар. Крестными стали те же люди (ф. 203, оп. 745, д. 149, л. 147 об.). В сентябре 1810 года появилась на свет дочь Анна, та самая, которую вписывали в ревизию 1811 года (ф. 203, оп. 745, д. 175, л. 654 об.). Крестным опять выступает Иван Меньшой.
Живут братья Шмелевы на Арбате, занимаются оба торговлей. В 1808 году Московское градское общество проводило своеобразную перепись купцов города, где каждый должен был заявить величину своего капитала. Попали в эту перепись и Шмелевы. Старший брат собственноручно засвидетельствовал: «Иван Иванов Шмелев з братом Иваном собственного своего капиталу имею восемь тысяч рублей. Жительство имею в приходе Миколы Явленного в доме купца Семена Васильева Пивоварова, торг имею в горшечных лавках» (ф. 2, оп. 2, д. 108, л. 4 об.). 22 февраля 1811 года произошло знаменательное событие в жизни Ивана Шмелева Меньшого - он женился и «понял за себя генерал-поручика и действительного камергера, графа Владимира Григорьевича Орлова на волю отпущенную дворовую девицу Устинью Васильеву» (ф. 203, оп. 745, д. 179, л. 191-191 об.). Данная запись является первым документальным известием о прабабушке писателя. 16 апреля 1812 года у молодых родился первенец - сын Василий. Крестили младенца 18 числа, восприемниками стали крестьянин графа Орлова Василий Зиновьев и его дочь Арина (ф. 203, оп. 745, д. 183, л. 67-67 об.).
Эти два коротких сообщения метрической книги позволили сложиться в мозаику многим другим разрозненным фактам. Двое крестных - Василий Зиновьев и Арина Васильевна - являются ближайшими родственниками Устиньи Васильевны. Это ее отец и сестра, то есть тесть и свояченица прадеда писателя. Василий Зиновьев еще не раз будет встречаться в нашем повествовании. Забегая вперед, сообщим, что он происходил из села Авдотьина Серпуховского уезда. Авдотьино - родовая усадьба виднейшего просветителя и издателя ХVIII века Н.И.Новикова, проведшего здесь свое детство и последние двадцать лет жизни. От тех времен до наших дней сохранилась Тихвинская церковь в стиле барокко и жилые дома для крестьян, выстроенные по указанию Новикова.
Первенец Ивана Меньшого родился за два месяца до начала Отечественной войны 1812 года. Где были и что делали Шмелевы в войну, неизвестно, только некоторые косвенные сведения могут дать представления о тех днях. Последняя запись в метрической книге Николоявленской церкви датирована 29 августа 1812 года, а 2 сентября русские войска начали оставлять Первопрестольную. Записи в метрической книге прерываются до декабря. Церковь устояла, сохранились и метрические книги. Устоял и дом купца Пивоварова, где Шмелевы продолжают жить и после ухода французов, о чем свидетельствует запись от 17 декабря 1812 года о крещении, где восприемником выступал Иван Иванов Шмелев, московский купец (ф. 203, оп. 745, д. 189, л. 63). Кто из братьев стал крестным младенца Настасьи, не уточняется, но это и неважно. Шмелевы войну пережили и вернулись (или и не уезжали?) на старое место.
Писатель в повести «Богомолье» воспроизвел семейную версию послевоенных занятий своего прадеда, который начал торговать щепным товаром на пару с неким Аксеновым, ремесленником из Сергиева Посада. Видимо, после 1812 года пути братьев разошлись. Московский пожар сгубил не одно состояние. В 1814 году Шмелев Большой выбыл в московское мещанство (ф. 51, оп. 8, д. 149, л. 615 об.), а Меньшой сумел закрепиться в купечестве. Арбатский период жизни Шмелевых закончился. Семьи братьев разделились. Семья Ивана Меньшого ищет новое место жительства, а ее глава - прадед писателя - новую сферу приложения своих сил.
Шмелевы на Воробьеве
Следующим местом жительства предков писателя стало село Семеновское на Воробьевых горах. Сегодня здесь ничто не напоминает об этом населенном пункте, между тем поселения на крутом берегу Москвы-реки известны издревле. В ХV веке село Воробьево принадлежало великой княгине Софье Витовтовне (1371-1453). От более поздних времен сохранилась только церковь Троицы, которая сегодня является одной из немногих московских построек, помнящих Шмелевых.
Шмелевы появились на Воробьевых горах около 1814 года. Связано это было с предпринимательской деятельностью главы семейства - постройкой кирпичного завода. Москва отстраивалась после пожара 1812 года, и производство кирпича, несомненно, было делом прибыльным, а Воробьево являлось чрезвычайно удобным местом для строительства кирпичного заводика.
Московские власти кирпичное дело контролировали довольно строго. Заводовладельцам раздавались специальные формы для изготовления кирпичей «без малейшей прибавки или убавки». Заводчик был обязан клеймить свои кирпичи. Каждый год специальная комиссия должна была «делать кирпичу пробы и наблюдать», чтобы тот был строго установленного размера. Эти строгие нормы (вернее, их несоблюдение) сыграли важную роль в судьбе Шмелевых, а нам позволили проследить этапы семейной истории.
Итак, в 1814 году Шмелевы уже обретаются на Воробьевых горах, в селе Семеновском. Центром села был храм Троицы, имевший долгую историю. Существует предание, что именно здесь, в Троицкой церкви на Воробьевых горах, перед знаменитым советом в Филях молился фельдмаршал М.И.Кутузов.
Благодаря метрическим книгам Троицкой церкви стало возможным частично восстановить повседневную жизнь села и семейства Шмелевых.
В июле 1814 года уже немолодым женился вторым браком дьячок Троицкой церкви Иван Семенов. Его супругой стала «мещанская дочь» Ольга Васильева. В июле следующего года у молодоженов родился сын Павел. В метрической книге имеется запись, сообщающая, что «восприемницей (то есть крестной новорожденного) была московского купца Ивана Иванова жена ево Устинья Васильева» (ф. 2121, оп. 1, д. 1455, л. 2). Это свидетельство говорит о том, что Шмелевы на Воробьевых горах обжились, имели довольно короткие знакомства. Кстати, упомянутый отец новорожденного Павла дьячок Иван Семенов впоследствии имел некоторое влияние на судьбу Ивана Ивановича Шмелева.
У самих Шмелевых на Воробьеве появилось на свет двое детей. 1 мая 1814 года родилась дочь Пелагея (ф. 2121, оп. 1, д. 1455, л. 12 об.). С большой долей вероятности можно утверждать, что это та самая тетушка Пелагея из «Лета Господня», что насказала и собственную кончину, и смерть отца писателя. В марте 1816 года на свет появился сын Гаврила, умерший в возрасте девяти месяцев и похороненный у Троицкой церкви (ф. 2121, оп. 1, д. 1455, л. 39).
Крестными этих детей стали «девица Ирина Васильева» и крепостной графа Владимира Григорьевича Орлова Василий Зиновьев, уже знакомые нам по Арбату. Сам Зиновьев в Москве проживал у «Колутцских (то есть Калужских) ворот», в приходе церкви Казанской Божьей Матери, что явствует из записи в метрической книге (ф. 2121, оп. 1, д. 1455, л. 12 об.). Вполне возможно, что переселение Шмелевых на Калужскую улицу связано именно с тестем, Василием Зиновьевым. Можно также предположить, что и некоторые другие обстоятельства подтолкнули семью к переезду.
В августе 1815 года инспекцией Комиссии для строений в Москве на кирпичных заводах Ивана Шмелева и Дмитрия Кулькова были обнаружены партии некондиционного маломерного кирпича. На заводе Шмелева эта партия составляла 1610 штук; этого оказалось достаточно для подробного дознания. Допрошены были рабочие завода, староста села Воробьева Ефим Гавриков, благочинный Троицкой церкви отец Димитрий Николаев, кум Устиньи Васильевны Шмелевой - дьячок Иван Семенов. Дознание вел Первый департамент Управы благочиния Московского магистрата.
Допрошенные в ноябре 1815 года рабочие завода согласно показали, что маломерный кирпич «купец Шмелев приказал делать... для собственных своих обжигательных печей и починки перемычек» (ф. 32, оп. 6, д. 12, л. 55). Священник Димитрий Николаев свидетельствовал, что Шмелев «поведения хорошего» (ф. 32, оп. 6, д. 12, л. 60). Аналогичные свидетельства дали дьячок Иван Семенов и пономарь Петр Васильев.
По данному делу власти допросили и хозяина завода. Сам Иван Иванович Шмелев не очень стремился встретиться с представителями правосудия. Все попытки вызвать его для дачи показаний оканчивались неудачей: домашние говорили, что он «находится для покупки леса в роще» (ф. 105, оп. 8, д. 6252, л. 4 об.). Квартальный поручик Валаухов «в дом того Шмелева ходил неоднократно», но в «доме его ни в какое время застать не мог, и, по-видимому, он, Шмелев, от дому своего делает укрывательства здесь в Москве» (ф. 105, оп. 8, д. 6252, л. 7 об.). У дома даже был поставлен караул. Лишь 16 сентября 1815 года полицейскому чину удалось застать Шмелева и доставить того в часть, чтобы потом препроводить в Первый департамент магистрата. 20 сентября 1815 года состоялся допрос Ивана Шмелева. Хозяин завода показал, что «такового маломерного кирпича в Москву и на продажу делать никогда не приказывал, да и намерения к оному не имел» (ф. 32, оп. 6, д. 17, л. 32). Показания были письменно зафиксированы и собственноручно удостоверены Иваном Ивановичем: «К оному дапросу московска купец Иван Шмелев руку прелажил» (ф. 32, оп. 6, д. 17, л. 32). Почерк в документе достаточно устойчивый, чувствуется, что Шмелев хорошо грамотен. Но это свидетельство не совсем согласуется с более ранним документом, 1811 года, когда в Книге записи капиталов купцов Кадашевской слободы за младшего брата ввиду его неграмотности запись сделал Иван Иванович Большой.
22 сентября 1815 года последовало решение Первого департамента Московского магистрата. Шмелева было велено «впредь до решения дела... отдать на верное попечительство с тем, чтобы он из Москвы не отлучался» (ф. 32, оп. 6, д. 17, л. 34 об.). По сути, мерой пресечения была выбрана подписка о невыезде. Но само дело тянулось еще долго. Срок апелляции Шмелев пропустил, поэтому в июне 1818 года подпиской его обязали уплатить «противу стоящей цены кирпича втрое»; сверх того, он был оштрафован на 50 рублей. Вся же сумма составила 115 рублей. Некондиционный кирпич был конфискован еще в 1815 году.
Подобное поведение заводчика особых симпатий не вызывает, но и строгого осуждения тоже не заслуживает. Шмелев, как и многие другие купцы, «наживал состояние своими трудами, но очень разными средствами» . Самому закончить дело Ивану Ивановичу было не суждено. Передряги сказались, и к марту 1823 года (точную дату смерти установить пока не удалось) его уже не было в живых. Дело заканчивали опекуны.
Как можно видеть, семье и ее главе в эти годы пришлось несладко. Тянувшаяся тяжба о маломерном кирпиче не давала покоя. Было и еще одно осложняющее обстоятельство - переезд на Большую Калужскую улицу, который пришелся как раз на этот период. Около 1818 года (а не «до пожара», как писал в «Лете Господнем» Иван Сергеевич) Шмелевы стали владельцами дома и усадьбы на Большой Калужской улице в приходе церкви Казанской Божьей Матери. Обретение нового дома открыло и новую страницу в семейной истории Шмелевых.
Шмелевы на Калужской
Дом для русского человека - нечто большее, чем просто крыша над головой. Дом и двор до недавнего времени были целым миром, а не просто местом проживания. Долгие годы помнится русскому человеку дом и двор, где прошли его детство и юность. «И теперь еще, не в родной стране... вспомнится, как живое, - маленький сад, когда-то казавшийся огромным, лучший из всех садов, какие ни есть на свете, теперь без следа пропавший... с березками и рябиной, с яблоньками... И двор увидишь, с великой лужей, уже повысохшей, с сухими колеями, с угрязшими кирпичиками...» («Лето Господне», глава «Яблочный Спас»).
Дом на Большой Калужской - родовая усадьба Шмелевых - появился в их владении не позднее 1818 года. Точнее определить дату пока не представляется возможным. В этом доме и разворачиваются основные события «Лета Господня». Как известно, книга имеет подзаголовок: «Праздники - радости - скорби». Все это сполна было пережито в шмелевском доме.
Дом находился в Замоскворечье, в той части Москвы, которая издревле обладала своеобразием бытового и архитектурного уклада. Знаменитый наш драматург А.Н.Островский в ироничной фразе зафиксировал это своеобразие: «Как далеко ни ездил Геродот, а в Замоскворечье все-таки не был».
Современный вид Калужской улицы и Калужской площади коренным образом изменен многочисленными реконструкциями ХХ века: значительно увеличен размер площади, с которой исчез водоразборный бассейн, упоминаемый в книге; снесена Казанская церковь (сейчас на этом месте находится здание Министерства внутренних дел), сама Большая Калужская застроена современными высотными домами. Только с некоторой долей вероятности можно предположить, где же находилась шмелевская усадьба. Вероятно, это то место, где расходятся лучи Донской улицы и Ленинского проспекта.
В начале ХIХ века Большая Калужская являлась окраиной города, и застройка ее, как и население, были весьма демократичны. В четвертом квартале числится дом Ивана Шмелева . Оценивается дом в шесть тысяч рублей, что является весьма средней ценой для этого района Москвы.
Жизнь Шмелевых в это время не была простой и легкой. Кончина главы семьи, вероятно, сильно пошатнула дела, и Шмелевы переписались в мещане. Но вдова сумела сохранить семейное дело, поставить на ноги сыновей и дочерей. Ее, прабабушку Устинью Васильевну, писатель часто вспоминает на страницах «Лета Господня». Ее уже давно не было на свете, но живы были в доме ее установления, память о ней. Иван Сергеевич описывает свою прабабушку как явно незаурядную натуру. Это сказалось и в том, что собственную кончину Устинья Васильевна предсказала сама. «Прабабушка Устинья за три дня до кончины все собиралась, салоп надела, узелок собрала, клюшку свою взяла... в столовую горницу пришла, поклонилась всем и говорит: «Живите покуда, не ссорьтесь, а я уж пойду, пора мне, погостила». И пошла сенями на улицу. Остановили ее: «Куда вы, куда, бабушка, в метель такую?..» А она им: «Ваня меня зовет, пора...»» («Лето Господне», глава «Крестопоклонная»).
Незаурядность натуры Устиньи Васильевны подтверждают и сохранившиеся архивные документы. К сожалению, точных дат жизни прабабушки писателя установить не удалось. Родилась она около 1792 года (согласно «Посемейному списку купцов Кадашевской слободы», в 1812 году ей двадцать лет; ф. 2, оп. 2, д. 274, л. 98 об.). Происходила из крепостных графа Владимира Григорьевича Орлова, была отпущена своим господином на волю. Замуж вышла в феврале 1811 года. Вдовой осталась лет тридцати с небольшим. Документально установлено, что родила Устинья Васильевна по крайней мере шестерых детей: Василия (1812 - после 1863), Акулину (1813-?), Пелагею (1814-1880), Андрея (1815-?), Гаврилу (март - декабрь 1816), Ивана (около 1819 - после 1872). По крайней мере, трое дожили до зрелых лет: Василий, Пелагея и Иван, дед писателя. Скончалась Устинья Васильевна после 1863 года и была похоронена на Рогожском кладбище. В «Лете Господнем» Иван Сергеевич пишет, что прабабушка «была по старой вере». Документальных свидетельств принадлежности Устиньи Васильевны к старообрядчеству пока обнаружить не удалось.
Семейное дело вдова сумела сохранить - кирпичный завод на Воробьевке остался за наследниками. Но деньги нужны были ежедневно, поэтому использовались все способы их заработать. Одним из таких способов была сдача в наем комнат, что подтверждают метрические книги Казанской церкви: в июне 1827 года «в доме купчихи Устиньи Васильевны Шмелевой у жильца крестьянина Якова Архипова умре сын Петр, девяти месяцев» (ф. 2121, оп. 1, д. 285, л. 61 об.).
Безусловно, жильцы шмелевского дома были людьми небогатыми (капиталов с такого рода промыслов не наживешь), поэтому искали и другие, более надежные источники дохода. Таким источником стало для семьи содержание бань.
Общественные и частные бани существовали в Москве издревле. Можно даже сказать, что бани - первое коммунальное предприятие города. Одним из первых письменных свидетельств о наличии общественных («торговых» - в тогдашней терминологии) бань содержится в постановлении Стоглавого собора 1551 года.
Долгое время в московских торговых банях отсутствовало разделение на мужское и женское отделения. Общее банное помещение с единым входом разгораживалось лишь невысокой перегородкой. Лишь в 1782 году Устав благочиния потребовал обязательного разделения бань на мужское и женское отделения с раздельными входами.
В ХIХ веке функционирование бань регулировалось многочисленными правительственными постановлениями. В 1803 году указом императора Александра I бани были переданы в ведение городского управления, которое отдавало их на откуп с публичных торгов. В середине ХIХ века существовали уже бани различного класса: простонародные и дворянские, различающиеся ценой и уровнем комфорта. При банях практиковали различные костоправы, лекаря, повивальные бабки. Вспомним шмелевскую Домну Панферовну, которая и женщинам помогала, и горшок на живот умела «накинуть».
Посещение бань было неким ритуалом, непременным обычаем. В субботу или в канун больших праздников ходили в баню гурьбой, всей семьей, а семьи тогда были большими. Современники говорили, что поход в баню напоминал некое торжественное шествие.
Вот и Устинья Васильевна Шмелева решила заняться банным промыслом. В Центральном историческом архиве города Москвы сохранилось обширное «Дело об отдаче купчихе Шмелевой в содержание Кожевнических городских бань».
В ноябре 1842 года истек десятилетний срок аренды Кожевнических бань. Генерал-губернатор Голицын предписал отдать бани в торги. Городской Шестигласной думой были составлены «кондиции», на основе которых бани выставлялись на торги.
Объявление о торгах поместили в «Московских ведомостях», провели торги, но деньги, предложенные за аренду, Думе показались недостаточными, поэтому были назначены «переторжки». И вот тут в дело вступает Устинья Васильевна Шмелева. 17 декабря 1843 года в Московскую Шестигласную Думу поступает «доношение» от третьей гильдии купчихи вдовы Шмелевой, которая предложила платить за бани аренду 825 рублей вместо 610-650 рублей. «Доношение» завершается следующей записью: «К сему доношению московская купчиха вдова Устинья Васильева Шмелева за неумением ея грамоте и писать по ея приказанию сын ея родной Иван Шмелев руку приложил» (ф. 14, оп. 1, д. 396, л. 85). Это автограф деда писателя, расписавшегося за свою неграмотную мать.
Торги состоялись в феврале 1844 года, бани перешли в совместную аренду Шмелевой и некоему Волкову за 1611 рублей годовой платы. В марте Волков от аренды отказался в пользу Шмелевой, которая подписала соответствующий контракт.
Бани, доставшиеся Устинье Васильевне, стоили около 6000 рублей и были не из лучших. Содержание их требовало больших хлопот. Устинье Васильевне было уже около пятидесяти лет (для того времени возраст солидный), и поспевать всюду самой было ей нелегко. Помощником матери стал сын Иван, которому была выдана соответствующая доверенность.
При чтении текста возникает впечатление, что слышишь голос самой Устиньи Васильевны. Вот выдержка из этого документа: «Любезный мой сын Иван Иванович. Прошу тебя по моим коммерческим делам, кои тебе небезызвестны, входить по торговле в управление содержимых мною городовых торговых Кожевнических бань и что ты согласно сей доверенности законно учинишь, то приемлю на свою ответственность, впредь спорить и прекословить не буду...» От имени Устиньи Васильевны подписал эту доверенность Константин Игнатьев Скворцов (ф. 14, оп. 1, д. 396, л. 130-130 об.).
В апреле 1846 года Устинья Васильевна предприняла попытку добиться снижения арендной платы, для чего написала в Шестигласную Думу «покорнейшее прошение» об уменьшении платежей. Просьбу объясняет следующими обстоятельствами: выше бань по реке находились мойки для шерсти, принадлежавшие купцам Чугункину и Бахрушину (тому самому Бахрушину, потомок которого стал основателем Театрального музея). Якобы по причине наличия этого производства вода, поступавшая в бани, приобрела неприятный запах, и «чрез ети стеснении лишаюсь приходящих в бани и должна терять большие убытки» (ф. 14, оп. 1, д. 396, л. 224-224 об.). Заявительница просила дать указание о переносе моек шерсти ниже по течению, иначе она не в силах будет в срок платить арендную плату. Надо сказать, что маневр арендатора был молниеносно разгадан, и в просьбе заявительнице было отказано.
В 1854 году срок аренды истек, и Шмелевы, видимо, более никакого отношения к Кожевническим баням не имели. Но опыт ведения подобных дел пригодился в дальнейшем.
На Калужской единая большая семья распалась на отдельные ветви. Представление об этом дает «Алфавитный список живущих в Серпуховской части обывателей, составленный депутатским старостою Михаилом Феклистовым на трехлетие 1861-1863 гг.» (ф. 1266, оп. 1, д. 197, л. 121). Возглавляет семейство купчиха третьей гильдии семидесятилетняя Устинья Васильевна Шмелева, проживающая в собственном доме и числящаяся «природной» (коренной) москвичкой.
Старшую ветвь рода представлял Василий Иванович Шмелев (1812- после 1863). О первенце Устиньи Васильевны практически никаких сведений не сохранилось, кроме того, что он был женат на Надежде Тимофеевне (около 1818 - после 1863), упоминаемой в «Лете Господнем» с нелестной характеристикой «ворчунья, скряга-коровница». Старшую линию рода продолжил их сын Егор (1837-1897), женатый на Екатерине Семеновне (1843-?). Егор Васильевич стал одним из персонажей «Лета Господня» («Дядя Егор... такой огромный, черный, будто цыган, руки у него - подковы разгибает... Кричит на весь двор, с улицы даже на нас смотрят»). У супругов дети: Николай (1862-?), Алексей (1867-1887), Елизавета (1866-?) (в замужестве - Семенович), крестная писателя. Егор Васильевич Шмелев унаследовал отцовский кирпичный завод.
Чтобы закончить с этой линией семьи Шмелевых, забежим немного вперед. К концу ХIХ века кирпичный завод Егора Васильевича представлял собой отсталое производство, на котором не было ни механического двигателя, ни сколько-нибудь сносных условий для семидесяти занятых рабочих. Неоднократные указания властей о приведении жилых бараков в надлежащее состояние выполнены не были. В 1894 году владелец завод продает. Сохранились соответствующие документы, датированные девяностыми годами ХIХ века (ф. 54, оп. 180, д. 505). Это были нелегкие времена. Сына Алексея уже не было в живых. Он покончил с собой. Обстоятельства семейной трагедии нашли отражение в повести «Распад», где Егор Васильевич выведен под фамилией Хмуров, а Алексей фигурирует под именем Лени. Сам Егор Васильевич, видимо, серьезно болен. Сохранилась его подпись на документе, адресованном полицейскому приставу. Почерк дрожащий, нетвердый - так пишут люди, перенесшие инсульт или страдающие болезнью Паркинсона.
Егор Васильевич Шмелев скончался в 1897 году и похоронен на кладбище Донского монастыря вместе с женой и сыном Алексеем (шестой участок, недалеко от стены). С уверенностью можно сказать, что надгробный памятник отмечает истинное место захоронения: громадную глыбу черного гранита стронуть с места просто так невозможно.
Младшую ветвь рода представляет Иван Иванович Шмелев (1819 - после 1872), верный помощник матери и ее доверенное лицо. Он женат на Пелагее Петровне (1821 - после 1863). У них четверо детей: Сергей, отец писателя, Павел, Любовь, Анна. Многие из них известны нам по произведениям писателя. Но, прежде всего, о деде Иване Ивановиче, так часто упоминаемом в «Лете Господнем».
Иван Иванович Шмелев состоял в купечестве с 1854 года, числился по второй гильдии. Был строительным подрядчиком, выполнял различные плотницкие работы. Деревянный Крымский мост, плотницкие работы в храме Христа Спасителя - сфера приложения его сил. Иван Иванович был личностью незаурядной. В «Автобиографии» Шмелев пишет, что водилась за ним нехарактерная для купца страсть к французским переводным романам и историческим повествованиям - в доме была соответствующая библиотека. К сожалению, книг Ивана Ивановича внук не застал - «сволокли куда-то в амбар, а там поели мыши».
Не чуждался Иван Иванович общественной деятельности, а ее в то время купцы не просто не уважали, а боялись. В 1857-1864 годах был Шмелев сборщиком скотопригонного и мытного дворов, в 1861 году - депутатом Московской судоходной депутации. В Московском архиве сохранились «Рапорты сборщиков Масляного и Скотопригонного дворов об отсылке в дом общества денег, собранных за поступившие товары» за 1861-1863 годы (ф. 2, оп. 4, д. 133) с подписью деда писателя.
Известно, что Шмелевы рабочих для строительных работ нанимали среди крестьян-отходников. Процедура найма живо описана в «Лете Господнем»: «С Фоминой недели народу у нас все больше: подходят из деревни ездившие погулять на Пасху, приходят рядиться новые. Я хочу, чтобы всех забрали. И Горкину тоже хочется. Когда Василь Василич начинает махать-грозиться: «Я те летось еще сказал... и глаз не кажи лучше, хозяйский струмент пропил!» - Горкин вступается: «Хозяин простил... по топорику хорош, на соломинку враз те окоротит. А на винцо-то все грешные»» («Лето Господне», глава «Царица Небесная»).
Документальные подтверждения предпринимательской деятельности Шмелевых сохранила нам паспортная книга Серпуховской части за 1870 год (ф. 1266, оп. 1, д. 292, л. 295, 399 об.). По записям в ней можно установить, что летом этого года Шмелевы нанимали крестьян Веневского уезда Тульской губернии.
Но в своем деле дед писателя оказался неудачлив. При исполнении неких подрядных работ Иван Иванович отказался дать кому-то взятку, заказчик потребовал крупных переделок. «Дед бросил подряд, потеряв залог и стоимость работ», - пишет Шмелев в «Автобиографии». Капитала своим наследникам Иван Иванович оставил всего около трех тысяч рублей, так что отец писателя вынужден был начинать дело практически с нуля.
Следующее поколение Шмелевых-предпринимателей представляли Сергей и Павел Ивановичи - отец и дядя писателя. Дядю Павла (1847 - до 1873) Шмелев упомянул в «Автобиографии». Павел Иванович очень любил чтение и театр, что было весьма нехарактерно для купца того времени. «Хоть и занимался подрядным делом при жизни моего деда, но как-то спрохвала» и был очень слабого здоровья - «прочитал все свое здоровье на книгах». Умер Павел Иванович еще до рождения писателя.
И, наконец, Сергей Иванович Шмелев, отец писателя. Отцу Шмелев посвятил не просто самые светлые страницы книги, запечатлев на них образ горячо любимого человека, но сумел описать методы и способы работы строительного подрядчика, характер его взаимоотношений с рабочими и служащими.
Сергей Иванович (1842-1880) учился в Московском мещанском училище, но курса не кончил. В купечестве состоял с 1873 года, продолжая дело отца: строительство, различные подрядные работы (ледяные горы, иллюминации), содержал на Москве-реке портомойни, купальни, гонял плоты, содержал и бани, выстроенные под векселя. Кирпич для этих бань поставлял шмелевский же завод Егора Васильевича. Архивные материалы сохранили документы о предпринимательской деятельности Сергея Ивановича. В 1870 году он заключил с Московской дворцовой конторой контракт на устройство в Петровском дворце «мозаичного пола, исправление лепных украшений, устройство кирпичных заборов и переделку деревянной плотины у пруда... за утвержденную... цену оптом 9361 рубль» . Дел было много и все хлопотные, благополучие семьи держалось трудами отца. Последней стройкой отца писателя стали трибуны для публики на открытии памятника А.С.Пушкину в июне 1880 года. Скончался Сергей Иванович Шмелев в октябре 1880 года в возрасте 38 лет. Похоронен на Донском кладбище, могила не сохранилась. Автор предприняла попытку установить место захоронения отца писателя, но просмотренные документы фонда Донского монастыря, ныне хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов и в Московском государственном историческом архиве, не содержат сведений об этом захоронении, так что место могилы Сергея Ивановича Шмелева можно считать на сегодняшний день утраченным.
Сергей Иванович был женат на Евлампии Гавриловне Савиновой (1874- 1934). Фамилия Савиновых часто встречается в списках московского купечества, и сейчас уже можно определенно говорить, что эта семья имеет не менее долгое родословие, чем шмелевская.
У Сергея Ивановича и Евлампии Гавриловны было шестеро детей: София (1868-1948), Мария (1869 года рождения), Николай (1871-1928), Сергей (1875 года рождения, умерший младенцем), Иван (1873-1950), Екатерина (1879 года рождения). Жизненный путь братьев и сестер писателя подробно проследить не удалось. Имеются некоторые сведения, почерпнутые из разных источников. Дети получали образование: Николай учился в реальном училище, Мария окончила Московскую консерваторию, София работала акушеркой.
В январе 2000 года автору повезло встретиться с внучатой племянницей Шмелева - Ольгой Ивановной Любимовой, внучкой той самой Сонечки, что заставляла будущего писателя в наказание за рассыпанный бисер учить наизусть басню. Ольга Ивановна рассказала историю своей семьи. София Сергеевна вышла замуж за Никанора Никаноровича Любимова (умер в 1918 году), родила шестерых детей: Екатерину, Марию, Ольгу, Андрея, Никанора, Ивана. Никанор дружил с сыном писателя Сергеем. Сведения, приводимые О. Сорокиной в «Московиане», о сотрудничестве Никанора Любимова с немцами в годы Великой Отечественной войны внучатая племянница считает недостоверными. Доказательством, по мнению Ольги Ивановны, служит тот факт, что семью не тронули органы МГБ.
Основные факты биографии Ивана Сергеевича Шмелева в общих чертах известны, хотя написание биографии писателя - дело будущего. Здесь хотелось бы только напомнить основные жизненные вехи и привести свидетельства документов, которые удалось разыскать.
Рождение. В метрической книге Казанской церкви имеется запись о крещении Ивана Сергеевича Шмелева: «Иоанн. Рождения 21 сентября 1873 года. Крещен 25 сентября 1873 года. Родители: московский купец Сергей Иванов Шмелев и законная жена его Евлампия Гавриловна, оба православного вероисповедания» (ф. 203, оп. 776, д. 499, л. 49 об.).
Крестными были Александр Данилов Кашин и «московская купеческая дочь Елизавета Егорова Шмелева». А.Д.Кашин и Е.Е.Шмелева (в замужестве - Семенович) будут крестными младшей сестры писателя Екатерины - той самой Катюшки, рождению которой так радовался Сергей Иванович (ф. 203, оп. 776, д. 499, л. 257 об.).
Учение. Иван учился сперва в первой московской гимназии. В фондах Московского исторического архива сохранилась «Общая ведомость об успехах и поведении учеников московской первой гимназии за 1884/85 учебный год». Упомянут в ведомости и Иван Шмелев, который поступил в гимназию в 1884 году в первый класс, а потом был уволен «согласно прошению» (ф. 371, оп. 1, д. 257, л. 30 об.). В том же году Иван Шмелев поступил в шестую московскую гимназию, расположенную в Толмачевском переулке (современный адрес - Б. Толмачевский пер., 3). Гимназия находилась в доме, ранее принадлежавшем знаменитому богачу, чудаку, благотворителю и железозаводчику А.П.Демидову, о чем и сейчас напоминают великолепные по красоте и технике исполнения литые ворота. «Общий список учеников 3 класса на 1886/87 учебный год» сохранил некоторые сведения об ученике Шмелеве. По поведению оценка «5», по Закону Божьему - «4 3/4» (именно такие оценки фигурируют в отчетных ведомостях. - Т. Г.), по русскому языку - «4», по латыни - «3 1/4». Гимназист был допущен к экзаменам и переведен в следующий класс (ф. 230, оп. 1, д. 55. л. 19 об.). В особых нарушениях дисциплины Ваня замечен не был. В первой четверти уличен в таком грехе, как «шалость, невнимание и разговоры на уроках». Специально для Шмелева в печатную ведомость был вписан особый пункт: «изрезал стол». В этом необычном поступке ему споспешествовали два товарища. Нарушители были наказаны «оставлением в гимназии после уроков». Когда гимназический курс был завершен, в 1894 году Шмелев поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил в 1898 году.
Женитьба. 14 июля 1894 года в селе Трахонееве, на Клязьме, состоялась свадьба Шмелева и Ольги Александровны Охтерлони (1875-1934). Со своей будущей женой Иван Сергеевич познакомился еще в 1891 году. Обстоятельства знакомства отразились в романе «История любовная». Отцом Ольги Александровны был генерал Александр Александрович Охтерлони, герой обороны Севастополя. Мать жены была урожденная Вейденгаммер. Творческая и личная судьба Шмелева еще не раз пересечется с родом Вейденгаммеров.
 |
||
6 января 1896 года появился на свет единственный и горячо любимый сын Сергей. В метрической книге Казанской церкви имеется соответствующая запись:
«Сергий. Родился 6 января 1896 года. Крещен 4 февраля 1896 года. Родители: студент Императорского Московского университета юридического факультета (3 полугодия) Иван Сергеев Шмелев и законная жена его Ольга Александровна, оба православного вероисповедания, из дома Шмелева на Калужской улице. Восприемники: потомственный дворянин Александр Александрович Охтерлони и потомственный дворянин, инженер-механик Виктор Алексеевич Вейденгаммер и московская купеческая вдова Евлампия Гавриловна Шмелева» (ф. 203, оп. 776, д. 503, л. 266 об., 267).
Таким образом, Сергей Шмелев появился на свет в доме своего отца и бабушки, а его крестными стали ближайшие родственники. Примечательным фактом является наличие фамилии Вейденгаммера. Жизненный путь этого человека заслуживает отдельного исследования. Здесь же стоит только упомянуть, что Виктор Алексеевич Вейденгаммер стал героем романа «Пути небесные».
Дальнейшие жизненные обстоятельства Ивана Сергеевича наметим лишь пунктиром. После окончания университета служил, потом стал писать. Сотрудничал в журналах «Родник», «Юная Россия». Участник телешовской «Среды». В 1918 году, спасаясь от голода, уехал с семьей в Алушту, где был куплен небольшой домик-дачка, который сохранился до сих пор. В доме и сейчас живут люди, а почитатели Шмелева приходят посмотреть на это пристанище писателя, где прошли самые страшные дни его жизни. Домик стоит на горе, и от него открывается чудный вид на море, но в этом черноморском раю Шмелеву было так плохо, что «и море - не море, и солнце - не солнце».
После взятия Крыма Красной Армией Сергей Шмелев, как белогвардейский офицер, добровольно явившийся к новым властям, подлежал амнистии, тем более что непосредственно в боевых действиях он участия не принимал. Но судьба его, подобно судьбам многих соотечественников, сложилась трагически. Сергей был расстрелян, причем родителям об этом не сообщили. Известно из писем, воспоминаний самого писателя, как несчастные родители пытались разузнать об участи единственного сына, как пробирались они в Феодосию, как тщетно стучались во все двери. Сергей пропал, как пропали многие и многие в той кровавой круговерти коренного переустройства российской жизни.
Поиски документальных свидетельств гибели Сергея позволили обнаружить один документ в фондах Отдела рукописей Российской государственной библиотеки. Там имеются «Сведения по делу С.И.Шмелева, сына писателя И.С.Шмелева, обратившегося с просьбой помочь разыскать сына». Это заметки В.Я.Брюсова, к которому писатель обратился с просьбой помочь разыскать сына. Сам вид документа может дать представление о том страшном времени: три листка бумаги, исписанные карандашом с многочисленными сокращениями. Датировка предположительная - 1920 год. Вот что явствует из него.
11 декабря 1920 года Сергей Иванович Шмелев, 1896 года рождения, явился в Особый отдел третьей дивизии Четвертой армии в г. Феодосии со всеми документами, анкетой и фотографией. По обвинению в участии во врангелевской армии был заключен под стражу. Приговор был вынесен 29 декабря 1920 года, но расстрелян был позднее, так как был болен (туберкулез). Отцу сообщили, что сын выслан на Север.
Как видно, этот документ просто зафиксировал ту версию, которая и была сообщена писателю, а потом вошла во все его биографические очерки. Иных документальных свидетельств гибели Сергея Шмелева обнаружить не удалось. Обращение в российскую ФСБ в 1998 году также результатов не дало - там сведений нет. Сохранились лишь немые свидетели последних минут жизни и кончины сына писателя: Черное море, невысокие Крымские горы и Карантин в феодосийской бухте.
Расстрелы 1920-1921 годов проходили в том районе города, который называется Карантином. Когда-то там, может быть, действительно был карантин для приходивших кораблей. Теперь это музеефицированный район города - древние армянские церкви, следы археологических раскопок и плотный известняк под ногами. Место это оставляет впечатление мрачной торжественности, даже если и не знать его печальной истории. Там и нашел свою смерть Сергей Шмелев. Трагедия его гибели и гибели тысяч других наших соотечественников отразилась в стихах Максимилиана Волошина:
Отчего перед рассветом к исходу ночи
Кричит ветер за карантином:
- «Носят ведрами спелые грозды,
Валят ягоды в глубокий ров.
Ах, не грозды носят - юношей гонят
К черному точилу, давят вино,
Пулеметом дробят их кости и кольем
Протыкают яму до самого дна.
(«Бойня», Феодосия, декабрь 1920 г.)
Гибель единственного, обожаемого сына тяжко отразилась на родителях - Иван Сергеевич превратился в старика. После гибели сына оставаться в России Шмелевы не могли. В 1922 году они уехали из московской квартиры (Малая Полянка, дом 7) сперва в Берлин, а потом перебрались в Париж. Там, на чужбине, и была написана самая русская книга - «Лето Господне».
Парижская, французская жизнь Шмелева - особая, большая тема. Она ждет своих исследователей. На этих страницах хотелось бы только зафиксировать своеобразную весточку от Ивана Сергеевича. В июле 1999 года в Москву по приглашению Российского фонда культуры приезжал Ив Жантийом с супругой - тот самый Ивик, к которому обращена глава «Рождество» в «Лете Господнем». Он прошел по всем местам, описанным в повести, вспомнил много деталей из жизни Ивана Сергеевича. Как странно было автору беседовать с человеком, который называет Шмелева «дядей Ваней», живо и запросто рассказывает о кулинарных способностях Ольги Александровны. Но этот приезд был не просто весточкой из прошлого, а стал связующим звеном между прошлым и настоящим.
* * *
Примечания
1]. Лесков Н. А. Собр. соч.: В. 12 т. М., 1989. Т. 7. С. 15.
2]. Алфавитные списки всех частей столичного города Москвы домам и землям, равно казенным зданиям, с показанием, в котором квартале и на какой улице или переулке состоят. М., 1918. С. 51.
3]. РГАДА. Ф. 1239, оп. 22, д. 606, л. 7 об. Эти сведения сообщила Н.С.Датиева, за что автор ей чрезвычайно признательна.
Поколенная роспись семьи Шмелевых
Первое поколение
1. Аксинья Васильевна (1743-?)
Второе поколение
2. Иван Иванович Большой (1784-?)
Жена Ульяна Васильевна (1788-?)
3. Иван Иванович Меньшой (1785 - не ранее 1823)
Жена Устинья Васильевна (1792 - после 1863)
Третье поколение
4. Андрей Иванович (1807-?)
5. Захар Иванович (1809-?)
6. Анна Ивановна (1810-?)
7. Василий Иванович (1812 - не ранее 1869)
Жена Надежда Тимофеевна (1818 - не ранее 1880)
8. Акулина Ивановна (1813-?)
9. Пелагея Ивановна (1814-1880)
10. Андрей Иванович (1815-?)
12. Иван Иванович (1819 - после 1872)
Жена Пелагея Петровна (1821-1863)
Четвертое поколение
13. Егор Васильевич (1838-1897)
Жена Екатерина Семеновна (1843-?)
14. Сергей Иванович (1842-1880)
Жена Евлампия Гавриловна Савинова (1846-1932)
15. Павел Иванович (1847 - до 1873)
16. Анна Ивановна (1852-?)
17. Любовь Ивановна (1854-?)
Пятое поколение
18. Мария Егоровна (1866?-?)
19. Елизавета Егоровна (в замужестве Семенович; 1866?-?)
20. Алексей Егорович (1867-1887)
21. София Сергеевна (в замужестве Любимова; 1868-?)
22. Мария Сергеевна (1869-?)
23. Николай Сергеевич (1871- 1928)
24. Сергей Иванович (1875-?)
25. Иван Сергеевич (1873-1950)
Жена Ольга Александровна Охтерлони (1875-1936)
26. Екатерина Сергеевна (1879 - после 1918)
Шестое поколение
27. Сергей Иванович Шмелев (1896-1920/1921)
28. Екатерина Никаноровна Любимова
29. Мария Никаноровна Любимова (1903 - конец 80-х гг.)
Муж Александр Александрович Ольшевский
30. Ольга Никаноровна Любимова
31. Андрей Никанорович Любимов (?-1936)
32. Никанор Никанорович Любимов (1896-?)
Жена Ольга Васильевна (? - начало 70-х)
33. Иван Никанорович Любимов (1905-1975)
Седьмое поколение
34. Ольга Ивановна Любимова (род. 1934)
Муж Вадим Константинович Елисеев
35. Евгений Александрович Ольшевский (1926-1984)
Восьмое поколение
36. Вадим Вадимович Елисеев (род. 1964)
Жена Елена Леонидовна Кузьменкова
37. Наталья Евгеньевна Ольшевская
Муж Андрей Владимирович Семенякин
Девятое поколение
38. София Вадимовна Елисеева (род. 1995)
Ив Жантийом
Мой дядя Ваня
(Перевод с французского Б. В. Егорова.)
Шмелев в повседневной жизни
Первая встреча (1923)
Дзинь! - звонок, я открываю дверь. Ну да, это они.
Дядя Ваня*, gentil... это значит «милый»...
Мама рассказывала мне о дяде Ване и тете Оле - моем двоюродном дедушке и моей двоюродной бабушке (Ольге Александровне, сестре моей бабушки по матери). Они должны были приехать издалека, из России, через Берлин. Много несчастий выпало им на долю. Мы их ждали с минуты на минуту. Они были очень добрые, хорошие, милые. По-французски они говорили плохо. Мне сразу же захотелось им сделать что-нибудь приятное и объяснить слово «gentil». Но взрослые никогда не понимали моих намерений (а ведь это было первое - в мои три года - проявление будущего призвания); они не расслышали окончания моего приветствия. И решили, что из-за двуязычия я могу только смешивать два языка. Я был горько обижен на долгие годы.
В то время мы жили на втором этаже (по-русски на первом) дома 12 по улице Шевер, 7-й округ Парижа, в квартире из четырех комнат; были еще кухня, туалет, длинный коридор и два довольно темных чулана: один со стороны улицы, другой со стороны двора. Туда часто приходили за милостыней нищие, они пели бывшие модными песни. Им бросали немного монет, завернутых в бумагу. По утрам слышались характерные крики бродячих ремесленников: скупщиков кроличьих шкурок , точильщиков, склейщиков фарфора; грохот тележек, везущих то лед, то уголь... Рано утром и по вечерам из находившегося поблизости Военного училища раздавались звуки горна, а по воскресеньям стадо коз появлялось в квартале, и парижане могли купить парное молоко.
Мои родители жили в разладе. Отец работал шифровальщиком во французском посольстве в Праге. Я его очень боялся. Только много позже я научился ему доверять. В сущности, он очень любил меня, но по-своему.
Шмелевы заняли (в начале 1923 года) одну из комнат, окна которой выходили на улицу. Именно в ней дядя Ваня начал писать «Солнце мертвых» (в марте 1923 года; уже имелся роман под таким названием, поэтому в переводе в издательстве PLON оно вышло как «Le soleil de la mort»).
Шмелевы потеряли своего сына Сережу, он был убит в подвале выстрелом в затылок. Тетя Оля, узнав об этом, на следующий день поседела и лишилась всех зубов.
Они восприняли меня как дар Божий. Я занял в их жизни место Сережи.
Моя матушка (Юлия Александровна Жантийом, урожденная Кутырина) работала. Мною занималась тетя Оля. Она водила меня на прогулку в ближайший сквер Дезэкс, а иногда мы гуляли вокруг «Инвалидов». Я просил ее: идем на Берлину. На моем детском языке Берлина значило «очень далеко».
Она часто рассказывала мне о нашей даче в Крыму, в Алуште; о величественных горных пейзажах; о том, как надо было обращаться к татарам (алейкум селам); как мальчишки дразнили татар: свиное ухо съел, а те их гоняли; о злом коршуне, который хотел утащить курочку; о голоде... (Много деталей из ее рассказов я нашел потом в повести «Под горами», опубликованной в 1912-м.)
Она научила меня нескольким молитвам, которые я читал каждый вечер, и особенно за упокой убиенного Сережи. Меня крестил в церкви на улице Дарю (Святого Александра Невского собор) митрополит Евлогий. Моим крестным отцом был дядя Ваня, а крестной матерью Павла Полуэктовна, жена православного богослова Карташова.
Моей матери нравилось бретонское имя Ив. Но поскольку святой Ив был канонизирован уже после разделения Восточной и Западной Церквей, то следовало выбрать православное имя. Это оказалось не так просто, и крестины все время откладывались. Имя Иван не нравилось моей матери из-за того, что звучало как болван (потом она изменила свое мнение). Карташов разыскал в святцах редчайшее имя Ивистион, которое носил один из сорока мучеников. Память отмечают в один день с Натальей; немногие из священников его знают, и, причащаясь, я вынужден был повторять свое имя несколько раз, чтобы меня поняли. Мои близкие звали меня Ива, Ивушка, Ивунок, Ивчик, а когда я капризничал, в насмешку называли: плакучая Ива, Ивушка.
Мне было четыре года, но я хорошо помню, как меня крестили: я спел молитву, которой научил меня дядя Ваня: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас!»
Дядя Ваня очень серьезно относился к роли крестного отца, о чем можно судить по этим воспоминаниям.
Шмелевы принесли с собой русские традиции. Церковные праздники отмечались по всем правилам. Пост строго соблюдался. Мы ходили в церковь на ул. Дарю, но особенно часто - в Сергиевское подворье. Я помню, что в детстве для меня это было настоящим путешествием: сначала ехали на метро, а потом долго шли пешком до Крымской улицы.
В мой день Ангела и день рождения всегда бывали праздники, подарки. Я всякий раз с нетерпением ждал их.
Мой рост дядя Ваня отмечал на стене.
Тетя Оля
Тетя Оля была ангелом-хранителем писателя, заботилась о нем как наседка, не позволяла беспокоить. Она никогда не жаловалась (даже тогда, когда ее стала мучить грудная жаба). Ее доброта и самоотверженность были известны всем. Никто и никогда не сказал о ней ничего плохого. А ведь известно, что эмиграция утопала в сплетнях. И было ясно, что без О.А. Шмелев никогда бы не смог целиком посвятить себя творчеству.
Она замечательно готовила. Умела печь восхитительные пирожки с самой разнообразной начинкой (крутыми яйцами, зеленым луком, рисом, мясом, рыбой), воздушные пироги (взбитые - в то время вилкой - яичные белки, смешанные с фруктовым соком), песочные и слоистые сладкие пироги, ватрушки, готовить лапшу, варить кисели, варенье, пастилу из яблок и айвы (это своего рода компот, доведенный в результате многочасового выпаривания до твердого состояния)... Дядя Ваня был настоящим гурманом (в этом можно убедиться, читая соответствующие описания в его повести «Лето Господне»). Нас баловали и нежили.
Перед едой, как правило, осеняли себя крестным знамением. В основном ели гречневую кашу с молоком или сливочным маслом, щи (мне запомнились даже поговорки: каша любит масло, щи да каша - мать наша), куриный суп с пирогом, котлеты (мясной фарш, смешанный с размоченным хлебом и приправами, в форме сплюснутых шариков, поджаренных либо в духовке, либо на сковородке). Пальчики оближешь! Поскольку у дяди Вани стояли зубные протезы, ему было трудно жевать, и тетя Оля в течение четверти часа отбивала мясо донышком бутылки.
Жареная курица всегда сопровождалась забавами. В высушенное у плиты дыхательное горлышко тетя Оля клала несколько рисовых зерен и делала из него кольцо-погремушку. Грудную косточку (дужку. - Ред.) ломали на спор. Победителем выходил тот, у кого оказывался больший обломок. Притом жульничать было нельзя. Дядя Ваня участвовал в этих играх. Я всегда, как бы случайно, у него выигрывал.
В курице использовали все: лапки обжигали на огне, чтобы легче было снять кожу, затем из них варили бульон, куда бросали и головы, и желудки. Самыми вкусными были мозги и гребешок.
Из хорошо проваренных телячьих ножек готовились, как называла тетя Оля, Сережечкины жилки, которые так любил ее погибший сын - и я. Сережу вспоминали постоянно.
Из хорошо высушенных и отполированных косточек делали бабки, и дядя Ваня научил меня в них играть.
Тетя Оля была не только прекрасной хозяйкой, но и первой слушательницей и советчицей мужа. Он читал ей вслух только что написанные страницы, и жена была его критиком. Он доверял ее вкусу и прислушивался к замечаниям. Часто переделывал текст, сокращая. В его стиле отпечатывались самые разнообразные языковые пласты. А разговорная речь отражалась в орфографии.
Разлука
Писатель Бунин пригласил Шмелевых провести лето на его вилле в Грассе, там к сентябрю мой двоюродный дедушка закончил работу над «Солнцем мертвых». Мне было так одиноко без тети Оли и дяди Вани. Они привезли мне оттуда ведро сосновых орешков, которых я никогда не видел раньше.
Неожиданный приезд моего отца (1925?) вынудил Шмелевых покинуть нашу квартиру. Их приютили Карташовы. Сам Карташов был замечательным богословом. Он умел говорить о религии, заражая своей увлеченностью. Все проблемы представали в новом освещении. Он преподавал на Сергиевском подворье, представлял Православную Церковь на международных конгрессах. Они подолгу беседовали с дядей Ваней, и, конечно, нельзя недооценивать духовного влияния Карташова на его творчество.
Севр. У Карповых
Позднее Шмелевы сняли квартиру у бывшего русского купца Федора Геннадьевича Карпова (в Севре, на улице Кутюр, 2) и заняли часть нижнего этажа. Дом находился в глубине сада, окруженного каменной стеной с большой железной решеткой-калиткой. Окна выходили на большую лужайку, дорожки были посыпаны гравием, вдоль стены - кусты бирючины и акубы, которые доставляли мне много радости. Я проложил здесь свои тайные тропинки и строил шалаши, «неизвестные взрослым». Шмелевы взяли меня к себе, для меня это была счастливая пора. Моя матушка работала в Париже и регулярно навещала нас. Она всегда опаздывала, торопясь на поезд, спотыкалась на булыжной мостовой и домой возвращалась с разбитыми коленками. Тетя Оля называла ее двадцать два несчастья.
Карпов жил с женой, двумя сыновьями, Додиком и Адиком, дочерью Марусей и девочкой-сиротой, имени которой я не помню. Была у них в доме еще старая няня Аграфеня, которую называли няня Груша и иногда в шутку няня Яблочко, и кухарка Марфуша.
В творчестве Шмелева няня Груша заняла особое место. Она послужила прообразом героини романа «Няня из Москвы». Он часто беседовал с ней, записывал ее высказывания о загранице, отмечал особенности речи, которые мы затем находим у няни из Москвы.
Я также часами просиживал у них на кухне, надоедая своими наивными вопросами. Меня прозвали за это «болтушка яишная».
Карповы сохраняли в семье московский уклад жизни.
Старый купец держал амбарную книгу, заполняя ее по всем правилам искусства: без единой помарки. Он следил за каждым доходом, каждым расходом. Заметив малейшую ошибку, аккуратно исправлял ее бритвой. Иногда он приглашал меня к себе на второй этаж полюбоваться своими «рукописями». В моей памяти отпечаталось это стремление к совершенству, вкус к безукоризненному исполнению поставленной задачи. <...>
За народ
У Шмелевых в доме бывали друзья из белоэмигрантов, имен которых я уже не помню.
Я воспитывался в духе: «за Родину, за веру». Большевики, убившие Царя, были виновниками всех мук и страданий (см. «Солнце мертвых»). Я мечтал стать ординарцем генерала Баратова, который несколько раз бывал у нас. Я простодушно заявлял, что надо вешать всех большевиков вверх кармашками (sic!), чтобы из них высыпались все деньги, которые они отобрали у бедных.
Кутепов
Генерал Кутепов тоже проживал в доме Карпова. К нему часто приходили русские военные. Но однажды он исчез. Весть о том, что его при пособничестве предателей похитили большевики, потрясла весь мир. Говорили, что его увезли в посольство на улице Гренель, там пытали и убили в подвале дома. Относительное «безразличие» французского правительства к этому факту возмутило белоэмигрантов, которые считали себя союзниками Франции (в войне с Германией, в то время как красные предали французов).
Новгород-Северский
Из-за полной несовместимости характеров семейная жизнь моих родителей зашла в тупик. В конце концов, они развелись.
Как-то на Сергиевском подворье моя матушка познакомилась с сибирским поэтом Иваном Иванычем Новгород-Северским, приехавшим изучать богословие из Болгарии, где он работал на соляных шахтах. Он называл себя полковником белой армии (звания присваивались наспех, поскольку все высшие чины армии погибли). «Благомыслящие» эмигранты называли его хулиганом и самозванцем.
Моя же матушка увидела в нем человека талантливого, высочайшей культуры, глубоко верующего, с тонкой душевной организацией. Они полюбили друг друга. Ей хотелось спасти человека. Они тайно обвенчались в церкви на ул. Петель (храм Трех Святителей), которая в то время у ультранационалистов считалась левой. Насколько мог понять ребенок моего возраста, эмиграция разделилась на признающих власть Патриарха Московского (как считалось, подчинявшегося коммунистам) и на признающих власть Патриарха Греческого. Моя матушка не придавала большого значения этим политическим разногласиям. Она больше всего ценила в людях широту взглядов и душевную доброту. Чрезвычайно религиозная, она превыше всего ставила церковный брак, единственный, имевший значение в ее глазах. К тому же она не хотела официальной регистрации, боясь потерять французское гражданство, которое давал ей брак с моим отцом. (Иван Иваныч Новгород-Северский назывался «человеком без родины» и «космополитом», у него был нансеновский паспорт.)
Шмелевы, принципиальные в вопросах политики и морали, под влиянием чопорного эмигрантского окружения отказывались принимать Иван Иваныча. Когда моя мать приезжала в Севр, он часами в любую погоду ждал у решетки, чтобы проводить ее под покровом ночи по дороге Кутюр, проходившей вдоль леса, до дома, который она снимала в Бельвю, в получасе ходьбы.
Днем он работал чернорабочим на заводе Рено, на самых жалких условиях (чем еще мог заниматься поэт, который по-французски знал лишь несколько слов?), что, вероятно, позволяло иметь более точное представление о политических настроениях в рабочей среде (хотя во время революции коммунисты за его голову назначали большую цену).
Как это было принято в его семье, он регулярно приносил всю зарплату моей матушке, которую боготворил, и брал на себя все хозяйственные заботы.
Много лет спустя Шмелев признал талант Иван Иваныча и окрестил его Поэтом ледяной пустыни.
Оссегор
В то время (1924-1925 годы) Оссегор был маленькой деревушкой в Ландах, с дюжиной домов на берегу озера, соединявшегося каналом с океаном. Вокруг рос сосновый лес с редкими пробковыми дубами. Туда приходили смолокуры и сборщики пробковой коры. Чтобы выйти к океану, надо было знать определенные тропинки, иначе рискуешь застрять в колючем кустарнике, из которого нелегко выбраться.
Первым из русских, открывшим эту жизнь, был скульптор Бурчак. Он поселился с семьей в доме на берегу озера.
Прогулки
Дядя Ваня иногда уводил меня к океану, считавшемуся очень бурным. О купании не могло быть и речи. На песке мы находили разного рода любопытные вещи: деревья с корнями, пропитанные гудроном шпалы, обломки разбитых кораблей, поплавки рыболовных сетей (большие стеклянные шары, 10-15 см диаметром)... Бурчаки однажды принесли с океана целый ящик шампанского. Жена Бурчака подбирала на берегу кусочки отшлифованного волнами дерева, приделывала к ним лицо, ногу, руку... получались фигурки существ, пострадавших от стихии.
В эти прогулки дядя Ваня обычно брал с собой крепкую дубовую палку с округлой ручкой, которой прокладывал дорогу в зарослях ежевики и дрока. Как сейчас помню, я не представлял себе, чтобы мы могли уйти без этой палки. Для растопки кухонной плиты мы собирали по дороге шишки и древесную стружку, которую оставляли смолокуры.
В зависимости от приливов в озере можно было купаться, причем без всякой опаски. Тетя Оля внимательно следила за мной, сидя на берегу. У нее бывал с собой легкий завтрак, который после купания казался особенно вкусным.
Дядя Ваня иногда водил меня вокруг озера. Это было настоящее приключение. На другой стороне виднелся заброшенный дом, называвшийся «домом с привидениями». Туда ходить было нельзя. Дно озера заросло камышами. От запущенного, заваленного буреломом леса веяло таинственностью. Она еще усугублялась рассказами дяди Вани о русалках, о леших, о Бабе Яге - костяной ноге. Тщетно мы искали избушку на курьих ножках. К ней невозможно было приблизиться, поскольку мы не знали волшебного слова. Меня это огорчало. Я продолжал надеяться, что, может быть, ночью, при свете мерцающих гнилушек, нам удастся увидеть черепа на частоколе с огненными глазами, хотя это очень опасно.
Прибрежный сосновый лес отделяла от океана пустынная полоса дюн, где росли душистые травы, моя любимая дикая гвоздичка, чертополохи, приносившие счастье, если их сорвать не уколовшись, бессмертник, который можно было сушить. Насекомых было множество самых разнообразных: разноцветные бабочки, жуки (навозники, хрущи), кузнечики с розовыми и голубыми крылышками, из которых выдавливался деготь, если нажать на брюшко, приговаривая: «Кузнечик, кузнечик, дай деготку!», гусеницы, до которых вовсе не следовало дотрагиваться . Повсюду валялись остовы майских жуков, съеденных муравьями. Шмелевы приобщали меня к чудесным тайнам природы.
Увы, нам встречались шалаши с силками для охоты на перелетных птиц, которых потом убивали, сдавливая головы большим и указательным пальцем. Такая охота нас возмущала.
Я собирал гильзы, брошенные охотниками на песок, голубые, красные, зеленые, с медной головкой.
Каникулы у Шмелевых были для меня сущим раем.
Капбретон. Дача «Жаворонок» (1925...)
Дом в Оссегоре оказался без удобств, к тому же и ходить за покупками было довольно трудно. Это вынудило Шмелевых на следующий год снять в Капбретоне небольшой деревянный дом, стоявший прямо посреди поля, который оправдывал свое название - дача «Жаворонок» («Alouette»).
Работая в тишине над своими произведениями, дядя Ваня на досуге мог развивать свой талант садовода. Особенно он любил настурции, подсолнухи, повилику, душистый горошек, анютины глазки, бархотки.
Тогда во Франции не сажали подсолнухов, и соседские крестьяне, любопытствуя, приходили ими полюбоваться. Мы по-деревенски лущили семечки. А из стеблей, удалив сердцевину, я мастерил маленькие пушки, чтобы стрелять в воображаемого неприятеля.
Был еще огород, где, как все истинно русские люди, дядя Ваня выращивал укроп и огурцы. Он показывал мне, как надо опылять огурцы (которые были не похожи на французские корнишоны), как направлять новые побеги. Я помогал ему выпалывать сорняки, поливать грядки. Было большой радостью наблюдать всходы и затем собрать урожай довольно зрелых огурцов. Мы ели их по-русски: разрезали вдоль на две половинки, посыпали солью, терли друг о дружку и с хрустом кусали. Мне показалось бы кощунством резать их, огромных, на тонкие ломтики, как это делают французы.
Тетя Оля умела солить огурцы по всем правилам.
Из пахнущих смолой реек, принесенных с соседней лесопилки, она соорудила беседку, которую заплели вьюнки. Мы принимали там наших друзей, в том числе Деникиных.
Поле, окруженное плетнем, было моей вотчиной. Я проводил там целые дни, носился где хотел, рвал цветы, забирался в кусты, в конце лета собирал ежевику.
Тетя Оля для защиты от палящих солнечных лучей сшила мне красную шапочку - в конце концов меня так и прозвали.
Поле нашего соседа Дарригада было засеяно кукурузой, которая казалась мне огромной, как настоящий лес. Я не без страха заходил в ее заросли, так как там легко можно было заблудиться. Из кукурузных волосков тетя Оля научила меня делать усы.
Шмелевы, как я уже говорил, умели принимать друзей и справлять праздники. Тетя Оля пекла пироги с вареньем, которые подавались к чаю. Иногда устраивался небольшой фейерверк из бенгальских огней и нескольких ракет. Я их потом пытался сделать сам: полые стебли подсолнуха, бумага, опилки и несколько капель масла. Однако ожидаемого эффекта не получилось.
Каждый год мы следили за клиньями журавлей с их вечными курлы-курлы. Дядя Ваня узнавал птиц по голосам и умел им подражать. Всякий издаваемый звук имел свое значение. Вор воробей кричал чик-чик-чирик. Индюшка и индюк, которого обычно звали Федором, вечно спорили друг с другом: «Федор, Федор, купи башмаки!», а Федор ей в ответ: «В Туле были - не купили, теперь нечего покупать». Когда дядя Ваня произносил эти фразы, казалось, что разговаривают сами птицы. Я уже не помню, кто кричал: «А ты Федю видел?» - «Видел-видел-видел».
Из друзей, приходивших нас повидать, мне вспоминается одна маленькая девочка, Фиалочка, приехавшая из Швеции. Она была чуть старше меня, но намного крепче, что меня унижало. Она могла таскать за собой маленький деревянный грузовик, нагруженный песком: это давало ей право командовать мною. Ее силу объясняли тем, что она ела овсяные хлопья.
А поскольку с виду я был щупленьким, то в течение многих лет получал на завтрак толокняную кашу, ее называли овсянкой. Потом, когда я заболел энтеритом, она стала моим единственным блюдом. Шмелевы тогда очень боялись меня потерять. Тетя Оля ухаживала за мной с чрезвычайной заботливостью. Овес, вероятно, и спас меня.
Дядя Ваня придумал сделать второе седло на горизонтальной раме велосипеда, перед собой. Он увозил меня в длинные прогулки, открывая новые края: леса, озера, деревни.... По глиняным желтым дорогам, мощенным булыжником, движения почти не было. Иногда на косогорах он крутил педали с трудом. Шли пешком. Слушали тишину.
Наука о грибах
В конце лета мы ходили по грибы в дубовую рощу. Белые ценились больше всего. Мы собирали также лисички, маслята, рыжики. Местные жители показали нам песчаные грибы (лошадиная рядовка), которые следовало искать под песчаными бугорками, и пестрые грибы - пушистые зонтики, которые росли на пастбищах. Сыроежки мы презирали, хотя, как говорили, их можно было есть сырыми со сметаной. Дядя Ваня научил меня отличать съедобные грибы от поганок. Поганки оказывались полезны, ибо помогали отыскивать хорошие грибы, были нашими проводниками. Нас восхищали мухоморки, считавшиеся очень опасными. Размятые с сахаром на блюдечке, они служили отравой для мух. И надо было быть крайне осторожным, чтобы невзначай самому не отравиться.
Само собой разумеется, что, собирая грибы, дядя Ваня рассказывал мне истории, отзвук которых можно найти в его сочинениях. Грибы отправлялись на войну во главе с генералом белым грибом, который был всем грибам гриб (в моем представлении - генерал Деникин). Затем следовали маслята - дружные ребята, дождевики, которые, лопаясь, выпускали облачко дыма. У каждого вида грибов был свой мундир и свои обязанности. Но против кого, собственно, они сражались, я никак не припомню. Это было как-то связано с убеждениями Шмелевых, защищавших угнетенных и несчастных.
Дядя Ваня говорил мне, что у него есть волшебное слово, по которому появляются хорошие грибы. И действительно, после того как он произносил это слово тихим голосом (оно было тайным и, ставши известным, теряло свою силу), передо мной возникала «семейка грибов» - бабушки-дедушки, родители и маленькие детишки. Он доставлял мне удовольствие их собирать.
Он рассказывал и о грибах, которых не было в Ландах: про опят («славных ребят»), которые дружно жмутся один к другому на старых пнях, про замечательные подберезовики и подосиновики, про брата боровика, который синеет на разломе и которого надо было остерегаться.
Таковы были мои первые уроки грибной науки, благодаря которым я страстно ею увлекся впоследствии.
Я вспоминаю о вечерах, проведенных за сортировкой собранных грибов (было много червивых) и их чисткой. Нужно было тщательно следить, чтобы в корзинку среди хороших грибов не затесались поганки.
Липкие маслята, с которых мы снимали кожицу, пачкали пальцы. Брать следовало только самые молоденькие.
Рыжикам отрезали ножки и перед засолкой опускали в таз с водой на целый день. Затем закладывали в керамический горшок - попеременно слой соли, слой рыжиков, пряная зелень и сверху тарелка с тяжелым камнем. В течение месяца они пускали сок. Их можно было подавать на закуску. Французы не знали такого рецепта и считали эти грибы ядовитыми из-за рыжего молочка, которое через некоторое время становилось зеленым.
Для маслят у тети Оли был свой особенный рецепт: она нарезала их тонкими ломтиками, заливала молоком и ставила на маленький огонь. Просто объедение. Белые грибы разрезали на части, нанизывали на нитки и сушили на солнце, затем укладывали в герметичные коробки, запасая на зиму.
Друзья
Среди многочисленных друзей, которым Шмелевы открыли Ланды, мы видим Деникиных: генерала Антона Ивановича, голым черепом, громадными усами и внушительным видом производившего на меня сильное впечатление, его жену Ксению Васильевну (она научила меня многим песням: «Мой костер в тумане светит...», «Черные гусары»...), их дочь Маришу (впоследствии Марина Грей), на год старше меня, которая долгое время была товарищем моих игр.
Был среди друзей и полковник Попов, потерявший на войне руку. Он потом организовал ферму в деревне, в десяти километрах от Капбретона, и разводил там кур. Мы навещали его. Для меня это было открытием нового мира.
Поэт Бальмонт отдавал нам визиты. Он совсем не интересовался детьми и говорил с дядей Ваней только о литературе.
Иногда тетя Оля водила меня на канал Бурре, в километре от нас. Уровень воды в нем менялся в зависимости от приливов и отливов. В отлив я мог купаться (ползать на животе в лужах) без опаски. На песчаном берегу попадались слои серого ила, который во влажном состоянии имел консистенцию теста для лепки (я никогда не знал, как он называется по-французски, а переводы vase, limon, которые даются в словаре, мне кажется, не соответствуют реальности). Тетя Оля научила меня лепить из него разные фигурки. Дядя Ваня с нами ходил редко, он предпочитал заниматься своим делом.
Именно на берегу Бурре, немного вверх по течению, разместились позднее русские разведчики (старая Россия в военной форме) под командованием полковника Богдановича.
Дядя Ваня получал обильную корреспонденцию со всего мира, в частности периодику из Парижа, из Риги: «Возрождение», «Последние новости», «Иллюстрированная Россия», «Перезвоны», «Русский инвалид», «Сегодня»...
Капбретон, маленькая самобытная рыбацкая деревушка, привлекал все больше и больше туристов, и наш хозяин стал строить новые дома на своей земле. Я наблюдал за работой строителей и узнал много нового. Моими игрушками стали детские наборы гвоздей, инструментов, чурочки, краски. Я пытался быть «мастером на все руки» без необходимых знаний. Но, к сожалению, игрушечными инструментами нельзя было пилить, строгать, по-настоящему забивать гвозди. Мне нужны были настоящие инструменты. Однако этого никак не хотели понять взрослые. Я был для них всего лишь ребенок. <...>
Поскольку это местечко постепенно утрачивало свою уединенность, Шмелевы решили проводить лето на другой даче, более изолированной и расположенной на другом краю Капбретона. Она называлась «Веселое житье», о ней я расскажу ниже.
Соловьиная улица
Год фактически делился на два сезона: во время холодного Шмелевы оставались под Парижем, в Севре, а в теплый уезжали в Ланды, в Капбретон.
В 1928 году они сняли в верхней части Севра двухэтажный домик из пористого песчаника, с подвалом, расположенный на Соловьиной улице (дом № 9), которая шла вдоль железнодорожной насыпи. (В то время некоторые улицы еще носили поэтические названия, потом они были переименованы и получили совершенно нелепые имена каких-то политических деятелей.)
Дом располагался посередине громадного сада с лужайками, окаймленными редкими кустами примавер, с грядками овощей, с какими-то фруктовыми деревьями, с посыпанными гравием аллеями и в глубине сада - с порослью бузины, бирючины, туи и несколькими платанами. У соседних домов также были сады. Места здесь были тихие: на идущий по насыпи поезд не обращали внимания.
Писатель
Кабинет дяди Вани находился в противоположном конце дома на первом этаже, перед верандой, сквозь которую была видна задняя часть сада. Большую часть времени он пребывал в тишине, отдаваясь своему труду. Мне казалось, что он ничего не делает, но тетя Оля просила меня его не беспокоить: он думает. Я не очень понимал, что этим хотели сказать.
Свои сочинения он сразу печатал на машинке двумя пальцами, как почти все непрофессионалы; затем правил первоначальный текст, часто характерными фиолетовыми или черными чернилами. Он отвергал орфографию безбожников, которые упразднили букву «ять», потому что в ее написании присутствовал крест. Он гордился тем, что придерживается «исконной традиции православных», как когда-то его предки-староверы.
Кухня и столовая тоже находились на первом этаже. На втором этаже были спальня и чулан, где Шмелевы оставляли часть вещей, когда уезжали в Ланды.
Севрский лицей
Во время учебы в Севрском лицее я жил в семье Шмелевых на правах сына. В младших классах я часто болел, поэтому обычно мне продлевали каникулы на берегу океана - воздух соснового леса, насыщенный йодом, по мнению врача, был для меня благотворен. Я уезжал на каникулы вместе со Шмелевыми, а возвращался либо с ними, либо с моей матушкой.
Тетя Оля одевала меня с головы до ног, она вязала свитера, носки, перчатки. Я немного стеснялся, потому что был одет не так, как мои товарищи.
Севрский лицей при Учительском институте являлся показательным лицеем. Там применялась самая передовая педагогика. Мальчики и девочки учились вместе до шестого класса. Мы имели замечательных учительниц. Классные помещения были светлыми и чистыми, с маленькими отдельными партами, вычищенными до блеска. Рядом с лицеем находились сам институт и парк с японским садиком внутри, куда нас иногда водили.
Когда я впервые туда попал, то почти не говорил по-французски. Меня научили говорить, читать, писать и считать главным образом благодаря предметным урокам, на которых заставляли вдумчиво изучать окружающий мир. Мне привили вкус к занятиям, особенно к изучению наук, который я сохранил в течение всей жизни. Моя школьная жизнь была счастливой. По большинству предметов я входил в число лучших учеников класса. У меня были друзья, игры, проказы... и страхи, когда я вечерами пробегал улицу Затерянной долины, возвращаясь на Соловьиную улицу.
Порядки, царившие в лицее, отлично сочетались с духом шмелевского дома: приветливость, доброта, поэзия, благородство и в то же время упорство, самоотверженность, разносторонность интересов, чувство долга, чести, стремление к совершенству.
По окончании шестого класса я перешел из Севрского лицея в лицей Бюффона (в Париже), который показался мне отвратительной тюрьмой. Там я стал отчаянным лентяем.
Все хозяйство в доме тетя Оля взяла на себя. Она, можно сказать, была наседкой для своего мужа, которого обожала. Как и у всех любящих людей, у них, разумеется, возникали иногда недоразумения, со словами, которых лучше не повторять (но которые обогатили мой лексикон). В любую погоду тетя Оля шла на рынок с черной клеенчатой сумкой и тощим кошельком; обойдя все вдоль и поперек в поисках подходящих цен, она возвращалась тяжело нагруженной, никогда не жалуясь и не сетуя. Иногда она брала меня с собой. Между тем зимы стояли суровые: мостовые покрывались слоем льда и все водосточные желоба замерзали. Чтобы не поскользнуться, приходилось надевать носки поверх галош, как в Москве.
Я по сей день сохранил страсть бродить по рынку в поисках лучшего соотношения цены и качества.
Шмелев, постоянно окруженный заботой, даже и не подозревал, на какие жертвы шла его жена (он понял это гораздо позднее, только после ее смерти): жил целиком в литературном мире, деля с женой свои пристрастия. Он считал, что писатель, достойный этого звания, несет весть людям, освещает правду (в самом русском смысле этого слова) ярким светом. Для писателя существенно важно быть борцом с ложью, беззаконием, пороками и решать великие вопросы человечества.
Написанное он каждый раз читал своей жене. Он глубоко доверял ее вкусу, прислушивался к замечаниям и затем исправлял свои сочинения. Само собой разумеется, я также присутствовал, слушал как завороженный и задавал свои детские вопросы, на которые он терпеливо отвечал.
Он был чрезвычайно требователен к себе и без колебаний переделывал написанное. Он всегда стремился к максимальной краткости, убирая большие отрывки, казавшиеся ему лишними.
Вслух он читал очень выразительно, захватывающе, немного театрально, прекрасно воспроизводил народный говор, умел напевать отрывки из песен, которые цитировал. Орфографией он старался передать читателю ту интонацию, которую вкладывал в свой текст. Мне кажется, я его слышу, когда перечитываю теперь.
Конечно, мое присутствие его вдохновляло, он хотел показать мне прежнюю Россию с ее радостями и печалями. Как и большинство русских белоэмигрантов, он думал, по крайней мере, вначале, что коммунистический режим скоро падет. И мы, возможно вместе с ним, сможем туда вернуться, вновь поселиться на нашей даче, которую он так любил и о которой так много рассказывал. Теперь можно сказать, что его желание было пророческим, ибо совсем недавно там открыли Музей Шмелева.
Он воспитывал меня как русского ребенка, я гордился этим и говорил, что только мой мизинец является французом. Свой долг крестного он видел в том, чтобы привить мне любовь к вечной России, это для меня он написал «Лето Господне». И его первый рассказ начинался словами: «Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я тебе рассказал про наше Рождество».
Любовь к России нисколько не мешала ему приобщать меня к французской литературе, доступной моему возрасту. Он открыл мне Жюль Верна, Виктора Гюго «Les Travailleurs de la mer», «Les Misйrables». Герои этих произведений оживали в наших разговорах.
Однажды он преподал мне, если можно так выразиться, первый урок сравнительного литературоведения. Он знал наизусть басни Крылова и Лафонтена. И стал сравнивать «Стрекозу и Муравья» и «La Cigale et la fourmi», показывая мне богатство обоих языков. Этот урок вдохновил и обогатил меня гораздо больше, чем все то, что я услышал потом на уроках средней школы от учителей литературы, по большей части вызывавших во мне скуку и отвращение к предмету.
Когда я начал изучать латынь, он прочел мне наизусть несколько отрывков с переводом и комментариями, из-за чего изучение латинских склонений стало для меня интересным. Но лицей Бюффона быстро положил этому конец.
Тетя Оля научила меня писать кириллицей. Словно играючи, я декламировал ряд слов, которые писались с «ять»: бедный, белый, бледный, бес, наводивших ужас на русских школьников в былые времена. Я полностью разделял точку зрения, что в написании безбожников эту букву запретили из-за элемента креста в написании.
Тетя Оля читала мне рассказы мужа, созданные для детей. Некоторые из них вызывали у меня слезы: «Мэри», «На морском берегу», а другие заставляли смеяться: «Как мы летали», «Наполеон»... также читала и жития святых. Она знакомила меня с произведениями, которыми увлекались дети ее поколения: «Князь Серебряный» Алексея Толстого, а в переводе: «Дон Кихот Ламанчский» (только без длинных, скучных описаний), «Лорд Фаунтлерой», «Кво вадис», «Без семьи»...
Фортепьяно
Моя матушка была прекрасной пианисткой (она получила медаль на экзамене в присутствии Рахманинова), часто играла для меня и старалась приобщить к музыке. Она очень хотела, чтобы я брал уроки фортепьяно. Меня отправили в Медон к старой русской учительнице. Но «детские» отрывки, которые та предлагала, не казались мне музыкой. Мне было неинтересно играть упражнения и тратить время на их заучивание. Я возненавидел фортепьяно. Позднее матушка предложила мне взяться за Бетховена и Шопена. Меня это очень вдохновило. Несмотря на плохую технику игры, я пытался выучить их наизусть. Но было слишком поздно. Из-за начавшейся учебы времени на занятия музыкой не оставалось.
Разумеется, Шмелевы были не настолько консервативны, чтобы выступать за сохранение «ижицы» и «фиты». Я знал угрожающую поговорку: ижица к попе близится, хотя педагогические принципы Шмелевых исключали любые физические наказания, от которых так страдал маленький Иван после смерти отца.
Тетя Оля рассказывала мне, что мать Шмелева под бременем непосильной ответственности стала женщиной очень нервной. Многочисленные проказы маленького Вани (вроде «путешествия в обе Америки», или «спуска на парашюте», или «нарисованного художника»...) строго пресекались. Она заставляла кучера наказывать его, по старому русскому обычаю, солеными розгами (когда-то считалось, что из ребенка вырастет настоящий мужчина, если он научится переносить физическую боль). Шмелев не любил вспоминать об этом.
А еще она рассказала, что совсем-совсем маленьким Ваня болел менингитом. Он должен был либо умереть, либо остаться дурачком на всю жизнь. И спасся чудом, по молитвам своей матери.
Я выучил таблицу умножения по-русски и любил шутить, что таблица поется на один и тот же мотив на двух языках, надо лишь немного поменять слова: дважды два - четыре, пятью пять - двадцать пять.
Понимая важность конструктора для моего развития (видя успех прежнего подарка), Шмелевы по случаю купили мне «громадный» - несмотря на его высокую цену и ограниченные финансы. Моя матушка, без сомнения, в этом участвовала.
Шмелева часто приглашали на литературные вечера, посвященные его творчеству. Его талант чтеца был общепризнан.
Когда я в классе декламировал стихи, я от всей души старался читать так же выразительно, как дядя Ваня, за что не раз удостаивался похвал от моих учительниц. Преподаватели же лицея Бюффона превращали художественное чтение в скучнейшую повинность, которую мы вынуждены были выполнять, чтобы в воскресенье утром нас не заставляли приходить в школу.
Визиты
Шмелевы имели множество друзей. В новой квартире места было гораздо больше, чем в доме на улице Кутюр. Нам отдавали визиты многие писатели и видные представители русской эмиграции, иногда целыми семьями. Имена некоторых из них я еще помню: писатели Бунин, Куприн, Зайцев, Ремизов, поэт Бальмонт, генерал Деникин, полковник Попов, богослов Карташов, профессор Кульман (который в Сорбонне преподавал русский язык, у меня сохранилась даже его маленькая книжка по русской грамматике со знаменитой буквой «h»).
По воскресеньям приходил Прокудин-Горский, чтобы отведать курицу с пирожками со всевозможными начинками, а на десерт песочный пирог с вареньем, ватрушку, кисель на клюквенном экстракте или на молоке, воздушный пирог и пр.
Знаменитый квартет Кедрова приходил петь в нашем доме. У них я научился петь «Вечерний звон», подражая голосом звону колоколов, детскую песенку «Жил-был у бабушки серенький козлик...».
Я уже знал самые известные русские песни.
Благодаря Кедровым я понял, что значит художественное исполнение любой песни, даже самой незатейливой. Много лет спустя один цыганский гитарист уверял меня, что не бывает плохих песен, есть лишь плохие, бездушные исполнители.
В детстве моя мать убаюкивала меня русскими колыбельными песнями (которые потом очень помогали мне обучать живому русскому языку, в особенности мою жену, на подушке).
Тетя Оля своим слабым голосом часто напевала мне поучительные песенки, знакомые всем русским детям: «Петушок, петушок, золотой гребешок...» (песенка о несчастном петушке, которого хотела съесть злодейка Лиса, - надо слушаться родителей, иначе с тобой может произойти та же беда, как и с беспечным петушком); историю о бедной сиротке, которую нашла при дороге добрая старушка, обогрела, накормила, уложила в кроватку, - напоминание о Божьем милосердии. Прощание рекрута: «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья...» - он вынужден покинуть родителей, братьев, сестер и, наконец, свою молодую жену. От этой песни на мои глаза наворачивались слезы.
Она научила меня и веселым плясовым песням: «Ах вы, сени, мои сени...», «Комар на ногу ступил, все суставы раздавил...», песня о несчастьях некоего Касьяна, праздник которого отмечался лишь один раз в четыре года и который в этот день напивался вдребезги, и т. д.
Безусловно, эти песни воспитывали мои чувства и мою душу.
В свою очередь Шмелевы навещали друзей в Париже, Медоне, Шавиле, в Аньере, где находилась православная часовня и Кадетский корпус, в Бур-ля-Рене, где жили Карташовы, в Ванве, где жили Деникины. <...>
Дядя Ваня страдал язвой желудка. Иногда у него случались резкие приступы боли. Лечил его наш доктор, тоже из русских, Сергей Михеич Серов, который был терапевтом и отоларингологом. Не имея французского медицинского диплома, как и большинство врачей эмиграции, он мог работать только в клинике под руководством французского врача. Это был человек редкой души, великолепный специалист, глубоко преданный своему делу. Он чрезвычайно ответственно относился к клятве Гиппократа и бесплатно лечил пациентов, у которых не было денег.
Мы были очень дружны с семьей Серова - самим доктором, его женой и дочерью Ириной (в замужестве Мамонтовой), о чем я еще расскажу.
Шмелевы так и не принимали у себя Ивана Иваныча... Когда матушка навещала меня, он всегда, в любую погоду, оставался ждать ее на улице возле калитки.
«Веселое житье»
Вилла «Веселое житье» («Riant Sйjour») была двухэтажной. На первом этаже располагались кухня с плитой, две спальни и столовая, которой в принципе Шмелевы не должны были пользоваться. Из кухни лестница вела на второй этаж, где дядя Ваня поставил себе рабочий стол прямо перед стеклянной дверью, выходившей на маленький балкончик. Здесь же, на втором этаже, был таинственный чулан, заставленный самыми разными вещами, и две пустые кладовки.
Дом принадлежал чете пенсионеров мсье и мадам Гаше, но на лето они предпочитали его сдавать, а сами жили в скромной пристройке, примыкавшей к дому. О наличии хозяев говорила обстановка дачи - обилие вещей (мебели, посуды, книг, белья), которых нельзя было трогать. Шмелевы были в прекрасных отношениях с четой Гаше, а также с их дочерью и зятем Кастелетти, дача которых, «Три сосны», отделенная несколькими кустами, была расположена по соседству. Я до сих пор посылаю дружеские открытки тем из них, кто еще жив.
У дома, в традиционном для Ланд стиле, как и у всех соседских дач, было два входа. Главный вход представлял собой нечто вроде крыльца- балкона (где в хорошую погоду Шмелевы любили угощать гостей чаем и пирогами).
По ступенькам попадали в сад, а затем на улицу - через зеленую железную калитку с колокольчиком. В то время улица была еще безымянная, но почтальон знал названия всех дач. Ее нынешний адрес: ул. Пьера Десси, 16.
Из кабинета был вид на переднюю часть сада. Другой вход, около кухни, вел во второй цветущий сад с маленьким прудом, за которым шел большой огород. В глубине была небольшая калитка, которая выходила прямо в лес.
Дядя Ваня мог без труда утолять свою страсть к садоводству. Его подсолнухи всегда поворачивали свои головки к солнцу.
Наши соседи
В то время как дядя Ваня работал у себя в кабинете, а тетя Оля занималась хозяйством и готовила еду, я играл то в саду, то на лужайке, то в саду у Кастелетти. Кастелетти потеряли своего сына, летчика, во время войны. Общее горе сближало Шмелевых и Кастелетти.
У мсье Кастелетти была охотничья собака Мьярка, которая не без ворчания уступала мне свое место под столом на кухне. Мы были большими друзьями. Часто мы с Мьяркой одни убегали в лес, где я научился ориентироваться. В дальнем конце огорода я по своему разумению строил шалаш из дрока, а дно устилал мхом. В конце каникул, после моего отъезда, как мне рассказывали Кастелетти, Мьярка бегала меня искать.
До пенсии мсье Кастелетти работал механиком на флоте. Он устроил себе мастерскую, в которой были и кузнечный горн, и наковальня, и много всяких инструментов. Каждый раз, когда он принимался что-то мастерить, я приходил к нему и смотрел, как он работает. И надоедал тысячью вопросов. Я бесконечно признателен за то, что он терпел меня долгими часами! Благодаря ему я узнал названия и назначение каждого инструмента и стал в свою очередь опытным мастером.
Поскольку дядя Ваня курил половинки сигарет, я вырезал ему мундштуки из черешни.
У мадам Гаше была кошка по кличке Мистингетт. Она отличалась тем, что вместо рыбы очень любила есть лук-порей. Эта странность «французской кошки» давала пищу всякого рода комментариям со стороны Шмелевых и их русских друзей.
Мьярка и Мистингетт прекрасно уживались между собой еще и потому, что любили разную еду.
По соседству на той же улице жили и другие люди, с некоторыми из которых я познакомился через Кастелетти. Но с ними Шмелевы не общались.
Ведро и ненастье
Солнце сияло не всегда, и возникал вопрос, чем заняться во время дождя. У меня не было конструктора, с помощью которого я мог бы строить мосты, подъемные краны, вокзалы... Мсье Кастелетти не всегда работал в своей мастерской. В чулане уже не хватало вещей, чтобы удовлетворить мое любопытство.
Поскольку дожди редко бывали затяжными, это время использовали для игры в плешивых (лысых). Надо было составить список из сорока знакомых с лысиной.
Каждая плешь в некотором роде символизировала маленькое солнце, их отряд разгонял тучи и расчищал место для настоящего большого солнца. Во главе списка всегда был генерал Деникин. На самом деле оказывалось довольно сложно вспомнить столько лысых, игра затягивалась и солнце всегда, конце концов, выглядывало. Почва была песчаная, влага быстро впитывалась, грязи не было совсем, и я снова мог бежать в сад.
Прогулки
В хорошую погоду Шмелевы ходили гулять к океану. Мы шли под пение цикад через лес, пахнувший смолой; через пустынные дюны, отделенные от океана полосой сухих сосен, задушенных солеными туманами, искореженных ветрами, похожих в сумерках на замученных людей.
В дюнах не было никого, кроме одного таинственного человека, которого мы называли отшельником. Он построил себе хижину из балок и досок, выброшенных океаном на берег. У него даже был садик, отгороженный от песков забором, из густо переплетенного дрока. Там он выращивал виноград.
Позднее моя матушка познакомилась с этим любопытным человеком. Он иногда угощал нас своим вином и даже сдал угол Батюше, которого Шмелевы в то время еще отказывались принимать.
Океан был очень опасен из-за мертвой зыби. Здесь тонули каждый год. Я обычно играл на песке, собирал ракушки, строил из песка замки, а когда подрос, то из сухих водорослей, корней и досок сооружал шалаши от ветра. Чтобы все-таки доставить мне возможность искупаться, дядя Ваня и тетя Оля брали веревку, обвязывали меня одним концом, а другой держали в руках. Волны, которые обрушивались на берег, меня окатывали.
Говорили о том, что девятый вал - самая мощная и опасная волна, поэтому мы всегда считали волны, чтобы не пропустить ее. Разумеется, дядя Ваня рассказывал мне о Садко, о тысячах чудес, таившихся в морском дворце на дне морском, где жил Морской царь со своей женой, прекрасной Морской царевной, среди разноцветных рыбок и морских чудищ, со слугами, повиновавшимися взгляду или мановению руки; об изумительных драгоценных камнях, спрятанных в чугунных сундуках под огромными сложными замками.
Где-то на дне морском была спрятана «жизнь» Кащея Бессмертного, в каком-то яйце, а яйцо в утке, а утка в железном сундуке. Рыба Кит, освобожденная Иванушкой-дурачком и его верным Коньком-горбунком, плавала где-то поблизости.
Во время равноденствий, когда Морской царь гневался, грохот волн, подобный раскатам грома, по свидетельству Кастелетти, достигал Капбретона. А однажды, без сомнения, Рыба Кит так разбушевалась, что огромная волна вдруг докатилась до дюн и оставила там обломки разбитых кораблей, которые обычно попадались на берегу. Все это усиливало волшебство сказок.
Город и порт
Капбретон состоял из двух частей. В одной, расположенной в двух километрах от берега и защищенной от бурь, были старая церковь (со сторожевой противопожарной башней), мэрия, почта, общественная школа, магазины и - по определенным дням - рынок. Тетя Оля ходила туда за покупками. Иногда мы поднимались на башню, с которой можно было любоваться окрестностями. В церкви мы восторгались бесхитростными картинами: гибнущая лодка с рыбаками, тонущими в громадных волнах, и чудесный олень с ореолом, который явился пораженным охотникам.
В городке все друг друга знали, поэтому обходились без формальностей. Здесь не шли в магазин или на почту, а наносили визит продавцу или другому лицу и рассказывали друг другу последние новости.
По дорогам иногда проезжали телеги местных крестьян, которые почем зря ругали своих мулов на местном наречии. Никто ни разу не согласился перевести мне эти ругательства, а сам я недоумевал, почему взрослые не понимают этих слов.
Другая часть Капбретона, находившаяся прямо на берегу океана, у впадения реки Бурре, представляла собой маленький рыбацкий порт. Он был защищен от волн длинной эстакадой из залитых битумом свай на фундаменте из цемента. В штормовую погоду волны, доходя сюда, разбивались об эстакаду, и ее обломки потом находили далеко, на диких песчаных берегах Оссегора. В тихую погоду было приятно смотреть на пенящиеся волны под ногами.
Под защитой эстакады можно было без всякой опаски купаться во время прилива - на общедоступном пляже, посещаемом туристами. Тетя Оля иногда водила меня на пляж, но нам не очень нравилась его светская атмосфера, да и обилие автомашин, пересекающих дорогу, не вдохновляло идти туда в туристический сезон.
Зато в мертвый сезон порт хранил определенное очарование заброшенности, которое оттеняли остовы домов, разрушенных штормами, и занесенные песком корни.
Наши друзья
В Капбретоне поселился поэт Бальмонт с женой: он - высокий, с длинными русыми кудрями, она - совсем маленькая. Казалось, что ее унесет ветром. Шмелевы и Бальмонты виделись почти ежедневно.
Рассказывали, что Бальмонт любил прогуливаться лунными ночами по эстакаде, заливаемой опасными волнами. Обычно он бывал навеселе. Маленькая жена тщетно пыталась убедить его вернуться домой.
Во время прогулок или сидя за чашкой чая на балкончике дачи «Веселое житье», Шмелев и Бальмонт говорили о литературе.
Бальмонт гнусавым голосом читал свои стихи (в том числе и довольно острые, которые так и остались неизвестными широкой публике, но до моих ушей они доходили). Я обычно держался в стороне. Он не любил детей, поэтому я проводил время с его женой, которая рассказывала мне об их приключениях, например, о том, как их чуть было не съели людоеды. Она подарила мне африканскую плетеную циновку, ракушки южных морей и бусы из венецианского стекла.
Бальмонты прятали нас с матушкой дома, когда мой отец приехал из Праги, чтобы провести со мной несколько дней, что позволялось по условиям развода. Моя матушка очень боялась, что он навсегда увезет меня с собой.
Профессор Кульман с женой занимали дом в лесу, неподалеку от Шмелевых. Для меня это были люди слишком серьезные, я их побаивался. Единственным приятным воспоминанием остался гамак в их саду, который висел между двумя дубами, где я мог качаться потихоньку, чтобы не упасть. Гамак я видел впервые в жизни.
Они тоже прятали нас от отца, который искал меня с помощью полиции. Приходилось постоянно менять убежище. <...>
Дядя Ваня любил ловить удочкой рыбу. Иногда мы брали напрокат лодку с обмазанным битумом дном и во время прилива поднимались вверх по каналу, нередко на пикник в компании с Деникиными, а с отливом возвращались домой. Я вспоминаю об этих прогулках с ностальгией.
С Деникиными мы встречались довольно часто. Они жили ближе к центру Капбретона в обширном поместье, тянущемся до Будиго. Я ходил играть с Маришей, которая была старше меня на один год, и с другими детьми. Мы общались по-русски.
Недалеко от дома был загон для хозяйских уток. Нам доставляло удовольствие кормить их улитками, которых мы ловили в озере Оссегор.
Это было очень забавно. Во время отлива мы отыскивали на илистом песке продолговатые дырки, в которые бросали немного соли, но так, чтобы тень ни в коем случае не падала на саму дырку. Через некоторое время оттуда появлялось что-то вроде головки, а затем медленно выползала сама улитка. Нужно было быстро схватить ее за раковину, но резко не вытаскивать, иначе она обрывалась, так что большая часть тела оставалась в песке. Мы с гордостью приносили нашу добычу домой и скармливали уткам, наблюдая, как они дрались за лучшие куски.
Генерал Деникин и дядя Ваня соревновались в приготовлении водки. Следовало в определенной пропорции разбавить спирт, купленный в аптеке, затем добавить ароматные травы, дать определенное время настояться. Вспоминаю, как дядя Ваня трет некий неизвестно где добытый корешок: в этом был секрет успеха.
Деникины великолепно собирали ягоды и грибы. Они готовили замечательную настойку: заполняли бутылку ежевикой, засыпали сахаром, закупоривали и в течение месяца держали на солнце. После брожения открывали бутылку, переливали сок в красивую бутылку и добавляли, по-видимому, немного спирта. Почетным гостям настойку с гордостью подавали на стол. С развитием промышленности эти обычаи забылись, а с ними ушло очарование, атмосфера гостеприимства, которую они создавали.
Как грибники Деникины не имели себе равных. Им были известны все грибные места, от их острого глаза не ускользал ни один гриб. Они собирали не только те грибы, которые мы знали, но даже и братьев боровиков, к которым мы относились с недоверием. Умели грибы консервировать, сушить, солить и мариновать, это была прекрасная закуска.
Однажды к нам в гости пришла семья Крячко, который имел магазин электротоваров неподалеку от ул. Шевер. Отец русский, мать француженка, их дети, сын Поль и дочь Надин, стали моими товарищами. По-русски они не говорили .
Дядя Ваня обучил меня стрелять из самодельного лука, который мы делали из дубовой или ореховой ветки. Он даже обещал научить готовить пеммикан, но так и не сдержал своего обещания. В дюнах мы играли в индейцев, размалеванных, украшенных куриными перьями, - прически нам помогала делать тетя Оля. Надин была скво.
Я дружил с курами. Я их кормил, заходил к ним в курятник послушать протяжное кудахтанье, говорил с ними на их языке и приходил домой весь в куриных блохах (которые не кусались, но вызывали зуд). Тетя Оля меня от них освобождала.
Я научился подражать петушиному крику так, что соседские петухи мне отвечали. Не знаю, оценили ли соседи мои таланты.
Однажды я попытался сымитировать джаз, стуча палкой по дну кастрюль и тазов. Но дядя Ваня и тетя Оля быстро дали мне понять, что я был не на высоте.
Позднее Крячко установил Шмелевым TSF - радиоприемник, работающий от аккумуляторов для уменьшения помех. Чтобы поймать радиопередачи, меняли положение антенны и поворачивали колесо с надписями. Для того времени это было значительным событием, хотя звук часто затухал, лампы перегорали. Надо было следить за уровнем воды в аккумуляторах и при этом не запачкаться кислотой. Переносить радиоприемник было невозможно.
Впервые мы слушали TSF у Кастелетти, тогда, вероятно, Шмелеву и пришла мысль раздобыть себе такой же.
Дядя Ваня очень любил слушать «Bolero» de Ravel и «Marche Persan», не помню чей, которые передавали довольно часто.
Жители Капбретона пышно праздновали 14 июля. Тетя Оля водила меня смотреть на игры, организуемые по этому случаю: бег в мешках, шест с призом, бег с полными водой стаканами на подносах, слизывание монеты со дна пригорелой сковороды, бег сквозь мешки, заполненные цветным порошком, и многие другие. Вечером был фейерверк и бег «огненного быка» через толпу. Смерть быка символизировала запущенная в черное небо ракета в форме светящегося колеса. Эти фейерверки приводили меня в восторг. На следующий день я отправлялся на поиски остатков ракет в надежде смастерить самому такую же.
Среди друзей, которые у Шмелевых были в большом почете, самыми любимыми, без сомнения, были Серовы. Доктор Сергей Михеич гостил недолго, работа держала его в Париже. Его жена Маргарита Александровна и дочь Ирина Сергеевна - обе одетые в белое, казавшиеся легкими-легкими, так что тетя Оля называла их стрекозки. Очень набожные, они искали случая услужить ближним. Они брали меня с собой на прогулку и ласково, терпеливо отвечали на мои нескончаемые вопросы.
Позднее Ирина вышла замуж за разведчика, Кирилла Мамонтова, который умер несколько лет тому назад. Это была идеальная пара. С Ириной я до сих пор поддерживаю дружеские отношения. Она передала мне много фотографий Шмелевых.
Когда Шмелевы достали мне велосипед, сначала маленький, детский, взятый напрокат в Капбретоне, для меня это было целым событием. Тетя Оля помогала мне садиться. Долгое время я не мог удержать равновесия, пока мне не приснилось, что все получается. На следующий день я покатил без труда.
Позднее они купили мне большой, последней марки велосипед по совету Кастелетти (со свободным ходом, масляными подшипниками, это был nec plus ultra того времени). Целыми днями я тренировался на нем, потом стал изучать окрестности. Я катался без рук и с гордостью выделывал разные другие «номера».
Этот велосипед служил мне долгие годы; благодаря опыту механика я научился его чистить, целиком разбирать и собирать, хотя и не без некоторых проблем с подшипниками. Он был верным спутником в моих путешествиях по Ландам, Альпам, а также по Парижу и его окрестностям.
Примечания
1]. На базаре продавали кроликов живыми, надо было с них содрать шкуру. Ремесленники скупали шкурки и из них делали дешевый мех.
2]. К слову сказать, Новгород-Северский был автором слов песни, написанной еще в первую мировую войну, - «Пусть свищут пули, льется кровь...», ставшей впоследствии гимном белой армии.
3]. Там был мелкий песок, мягкий. Это колоссальное преимущество, например, по сравнению с Ниццей, где была галька и больно было лежать.
4]. Скорее трость; он называл ее палкой.
5]. Чтобы не получить прыщей.
6]. Существовало несколько детских организаций, среди коих скауты, витязи, разведчики.
7]. Впрочем, Надин впоследствии узнала, что я читаю лекции по русскому языку для научных работников, и стала посещать их как биолог. Наша встреча после долгой разлуки была очень трогательной.
Шмелевы (ж-л «Москва», № 6, 2000 г.)
В распоряжении ЯРНОВОСТЕЙ оказались весьма любопытные аудиофайлы - записи телефонных переговоров владельца компании «Радострой» Сергея Шмелева с губернатором Ярославской области Сергеем Ястребовым и дорожником Вагинаком Погосяном.
Записи, присланные на электронную почту ЯРНОВОСТЕЙ, были сделаны за несколько дней до ареста мэра Ярославля Евгения Урлашова. О подлинности этих файлов мы судить не можем, но голоса, звучащие на аудиозаписях, действительно очень похожи на Сергея Шмелева, Сергея Ястребова и Вагинака Погосяна.
В письме также уточняется, что эти аудиозаписи содержатся в материалах уголовного дела Евгения Урлашова.
На первой аудиозаписи Сергей Шмелев обсуждает с Сергеем Ястребовым предстоящий аукцион по уборке города и возможные варианты ведения торгов. В частности, губернатор интересуется, на сколько процентов будет падать в цене каждая компания и о чем именно договорились Шмелев с Погосяном. Вторая запись - переговоры Шмелева с самим Погосяном, в ходе которых дорожники еще раз обговаривают ход предстоящих торгов.
Запись №1. Переговоры Шмелева и Ястребова (аудиозапись размещена под текстом).
Приемная: Здравствуйте, приемная губернатора беспокоит Ястребова Сергея Николаевича. Вам удобно говорить?
Шмелев: Да, удобно.
Приемная: Соединить с Сергеем Николаевичем Вас?
Шмелев: Хорошо.
Ястребов: Але.
Шмелев: Але? Серей Николаевич?
Ястребов: Сергей Вениаминович, как вы живы-здоровы?
Шмелев: Да спасибо, вроде ничего.
Ястребов: У меня к тебе один простой вопрос. Вот вы каким-то образом конструкцию сегодняшних торгов представляете?
Шмелев: Да, конечно.
Ястребов: Вот как вы ее представляете? Объясните, а то у меня что-то по-разному все в голове, никак понять не могу.
Шмелев: Ну, тут два варианта…
Ястребов: Мне вот вариант, который вы для себя определили, приоритетный.
Шмелев: А, приоритетный. Ну, что я выигрываю, то есть рынок остается 0,5%, я падаю на 1% и забираю, и Валере отдаю на субподряд часть работ.
Ястребов: Вы это с ним проговорили?
Шмелев: Я ему предлагал то же самое, но он упирается и хочет именно он взять генподряд, а меня на субподряд. Я, в принципе, уже потому что деваться некуда, иначе будут падения и там непонятно, кто заберет. Я в принципе согласился, просто потому что невозможно договориться.
Ястребов: А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?
Шмелев: Это крайний вариант…
Ястребов: Нет, ну рынок будет торговаться до минус 70.
Шмелев: Не будет.
Ястребов: Точно?
Шмелев: Точно, 100%.
Ястребов: А если будет?
Шмелев: Если будет, я сам с ним буду торговаться и уходить глубоко вниз.
Шмелев: Я уверен, что не будет. Просто сейчас не надо ставить в известность мэра о нашем решении. А просто второй шаг делает не Валера, а я. Они даже знать не будут, они же не видят, кто торгуется. То есть просто этот второй, они думают, что второй шаг сделает Валера и заберет, их это почему-то устраивает. А сделаю я и заберу. Ну, напутали. А потом, как говорится, все будет нормально. Считаю, что мы проходим однозначно. Если Валера согласится на нее. Если не согласится…
Ястребов: А вы сегодня о чем договорились?
Шмелев: Мы сегодня договорились, что он забирает в минус 1%.
Ястребов: Ну вы об этом договорились или не договорились?
Шмелев: Да, договорились.
Ястребов: Так вы в данном-то случае сейчас играете в эту игру или другую?
Шмелев: Да, но суть в том, что до аукциона осталось 20 минут фактически, то есть мы идем по этому механизму. Но гораздо лучше было бы, всех бы устроило, если бы все то же самое, но наоборот - я бы забрал, а Валера ко мне на субподряд. Это был бы идеальный вариант.
Ястребов: А вы с ним когда последний раз общались?
Шмелев: Мы последний раз общались полтора часа назад. Вот когда у меня уже времени не хватало, я уже согласился на вот этот его вариант. То есть бесполезно было, он уперся и говорит: «Или я забираю, или никто не заберет». Но понятно, город надо убирать, поэтому я не буду ломаться, я согласился. Потому что времени уже нет. Ну, я пытаюсь его вообще уговорить уже три дня, уже все доводы приводил, и все остальное, и все гарантии ему давал необходимые. Ну, уперся человек и все - «Хочу забрать!».
Ястребов: Ну ладно.
Запись №2. Переговоры Шмелева и Погосяна.
Шмелев (в сторону): Это Вы сейчас губернатора завели? Я с ним этот вопрос сейчас решал.
Погосян: Але?
Шмелев: Але? Давай, Валер, нормальный вариант согласовали. Первый шаг делает рынок, делаешь ты, как договаривались, а третий делаю я, и все, на этом стоим.
Погосян: Ну, как говорили, да?
Шмелев: Да, я забираю, правильно?
Погосян: Ну да, да. И, это самое…я…эм…
Шмелев: Мы с тобой сотрудничаем, ты сам знаешь, какой человек между нами, я б гарантии ему дал.
Погосян: Значит я Заволжский, Дзержинский, (неразборчиво), что ты уже убираешь?
Шмелев: Да, да, да.
Погосян: Все, ладно, давай.
Шмелев: Смотри только, не ошибись, торговлю не устрой, а то может у тебя там какой безумный мальчик сидит на компьютере.
Погосян: Нет.
Шмелев: Давай, все.
Погосян: Красивый женщина.
Шмелев: Давай, все, давай.
Как видим, Сергей Ястребов (или человек, голос которого очень похож на голос Сергея Ястребова) живо интересовался ходом аукциона. Насколько такой «интерес» соответствует закону, судить не беремся.
Ваня Шмелёв отнюдь не был бунтовщиком. Даже наоборот. Это был тихий мальчик с большими кроткими глазами. Через много лет он напишет: «Когда душа мертва, а жизнь – только известное состояние тел наших, тогда всё равно. Какой я теперь писатель, если я потерял даже и Бога».
В некоторых людях изначально заложен такой запас выносливости, что диву даёшься. Иван Шмелёв не жил, а выживал. Вопреки жестокой матери, ранней смерти отца и расстрелу единственного сына. Но как это сделать в мире, взорванном гражданской войной и революцией? Писатель создал свой уютный мирок – православный рай, куда можно спрятаться от всех невзгод, и пережить суровую зиму отчаяния. И назвал своё творение «Лето Господне». Его населяли исключительно милые сердцу автора люди.
Родной матушке Евлампии Гавриловне с её розгами путь в искусственный рай был закрыт. Внутренняя агрессия этой женщины постоянно требовала выхода. Её муж Сергей Иванович был очень влюбчив и не утруждал себя сохранением верности, что ещё больше раздражало жену. Свою злость она срывала на детях. Не один веник обломала о спину маленького Ванечки. Била даже за нервный тик. Некоторым женщинам категорически нельзя иметь детей. Такие не воспитывают – гробят. Всё, что есть в ребёнке светлого, чистого, прекрасного, – такая мать безжалостно убивает. Калечит душу, ломает волю, превращая маленькую личность в затравленного зверька – будущую жертву людей и обстоятельств. Такой человек никогда не будет счастлив. Потому что в нём эту изначально заложенную способность – быть счастливым – уничтожили ещё в детстве…
Евлампия Гавриловна возвращается из церкви и спрашивает прислугу:
– Сергей Иванович дома?
– Нет. Уехали по делам.
– Какие у него могут быть дела в это время? Ночь скоро.
– Не знаю. Не говорили.
– А я знаю! По бабам он поехал, по бабам!
Прислуга предусмотрительно отходит в сторону, чтобы гнев хозяйки не обрушился на её бедную голову. Когда Евлампия Гавриловна не в духе, под руку ей лучше не попадаться.
Услышав сердитый голос матери, шестилетний Ваня прячется под кровать. Хорошо бы стать невидимкой! Надел волшебную шапку – и нет тебя. А когда гнев матери пройдёт – снять и спрятать в надёжное место. Надо будет поговорить с папашей – нельзя ли сшить такую шапку. Интересно, где он и когда вернётся? Что имела в виду мать, когда сказала, что отец «поехал по бабам»? Как это может быть? – ведь он такой добрый! Воображение рисует причудливые картины…
Шаги матери раздаются всё ближе. Вот она открывает дверь. Просит прислугу зажечь свечи. Ваня лежит, затаив дыхание. Но мать не обманешь.
– Ах, вот ты где, поросёнок! Вылезай сейчас же!
Ваня выползает из-под кровати и доверчиво спрашивает:
– Матушка, а кто эти бабы, по которым ездит папашенька?
Евлампия Гавриловна делает бешеные глаза.
– Не твоё дело! А ну, бегом за розгами!
Ваня послушно приносит веник и, сняв штанишки, ложится на кровать.
Ревут сёстры, кричит прислуга, но мальчик их уже не слышит. Он спит и видит рождественскую ёлку, а под ней – подарки. Наклоняется, чтобы лучше рассмотреть их. «Это тебе!» – говорит мать и протягивает сыну жареного поросёнка. В его румяной спинке торчит нож. Поросёнок открывает глаза и просит: «Съешь меня, я такой вкусный!» Ваня в ужасе убегает, зовёт отца. Но отзывается только старый плотник Михаил Горкин: «Ступай на большую дорогу – там твой папаша!» Мальчик идёт туда. И что же он видит? На дороге лежат женщины – мать, сёстры, прислуга и другие, незнакомые. А отец ездит по ним верхом туда-сюда. Ваня кричит от страха – и просыпается.
– Где папашенька?
– Лошадь поехал объезжать.
– Хочу к нему! – кричит Ваня и начинает рыдать.
Никто не может его успокоить – даже преданный «дядька» Горкин.
Вскоре мальчик узнал, что его дорогого «папашеньку» сбросила норовистая лошадь – и ещё сколько-то протащила по дороге. Несколько месяцев отец тихо угасал. Осенью его не стало. Ему ещё не было и сорока. После смерти мужа характер Евлампии Гавриловны вконец испортился. Личная жизнь закончилась. Нужно было поднимать шестерых детей, которых она не любила. Шмелёв вспоминает, что их наказывали просто так – за то, что попались под руку вечно недовольной матери. И при этом «в доме я не видал книг, кроме Евангелия». Жизни там не было – одно мракобесие: чередование постов с истязаниями. Когда Ивану было десять лет, он защищался от матери ножом. Когда мальчику было двенадцать, у него обострился нервный тик. Увидев это, Евлампия Гавриловна принялась бить сына по лицу. Всё это происходило на Пасху. Ваня в слезах убежал в чулан.
Насколько мне раньше нравился писатель Шмелёв, настолько же я ненавидела его мать. Люто, лично – как будто она истязала меня, а не его. В моих глазах она была преступницей. Но осудить легко. Попытаться понять эту, язык не поворачивается сказать, женщину – трудно и неохота. Почему в ней проснулась жестокость? Зёрна садизма, вероятно, всегда были в ней. Родом из купеческой семьи, она получила хорошее для того времени образование. Как её звали в детстве? От имени «Евлампия» очень мало уменьшительно-ласкательных прозвищ – разве что Евлаша. Ну, не Лампой же называть растущую девочку! И разве любящим родителям придёт в голову дать дочери такое имя? Никогда! Даже по святцам есть какой-то выбор. Значит, изначально не любили.
Что ждало юную Евлашу? Выйти замуж или остаться вековухой. Девушка становится женой, матерью. Но любви-то в ней нет! Хотя, может, вначале и была – к мужу. А он не утруждал себя верностью. Ему на роду было написано влюбляться и кружить женщинам головы. Будь супруга мягкой и чувственной, возможно, он и потянулся бы к ней. Наивная или хитроумная жена закрыла бы глаза на интрижки мужа. Но Евлампия предательство не простила. Отомстить супругу не могла – любила. После его смерти стало ясно – жизнь кончена. Вдовец с несколькими детьми ещё может вступить в брак. Многодетная вдова не нужна никому. Отныне её удел – церковь и воспитание ребятишек. Но женское естество не умолкает. А любовника завести – стыдно, грех. Поэтому вымещала на детях. А тут ещё посты. «После говенья матушка всегда раздражена – усталость», – вспоминал Шмелёв.
Это не усталость даже – а убитая, искажённая страсть, не знающая выхода. Тоска по мужским объятиям, которые теперь – и навсегда – для неё недоступны. Самая искренняя вера, лишённая свободы, становится религиозной догмой. Когда запрещены даже сексуальные фантазии, женщина превращается в фурию. Если церковь ограничивает её – она ищет тех, на ком можно отыграться. Убитая сама, она заедает жизнь своим детям.
Евлампия Гавриловна прожила долгую жизнь, но счастлива не была. И всех вокруг делала несчастными. Нашла сыну богатую невесту – такую же купчиху, как она сама, только молодую. Но Шмелёв отстоял своё право на любовь. «Мне, Оля, надо ещё больше молиться. Ведь ты знаешь, какой я безбожник», – писал Иван невесте перед свадьбой. Но это «безбожие» не его собственное, а матерью вбитое. Оказывается, можно вот так, соблюдая все посты, выбивать из собственного сына Бога. Говорят, когда маленького Ваню тащили к матери на расправу, он молился на образ Богородицы, но она не защитила его. Как и после смерти любимого отца, почувствовал тогда Шмелёв ледяное дыхание жизни…
В Троице-Сергиевой лавре служил в ту пору благочестивый старец Варнава. Он предсказал будущему писателю всю жизнь нести тяжёлый крест. Это пророчество Шмелёву передала его мать. Зима Господня.